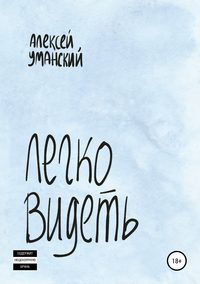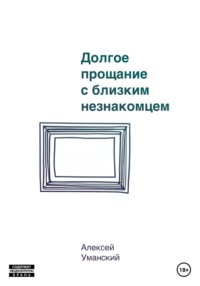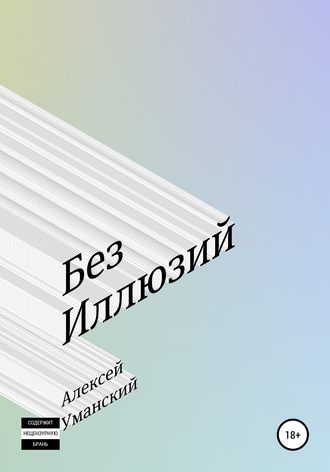
Без иллюзий
Из каждой прожитой жизни посторонним людям можно извлечь какие-то ценные знания для себя, а те, кто прожил эти жизни, часто сами хотят наделить ими всех желающих, но в первую очередь своих родных и любимых людей, дав им выводы из собственного опыта и если не прямой полезный урок, то по крайней мере, толчок к многостороннему самостоятельному представлению ситуаций, с которыми неизбежно придется сталкиваться и справляться любому человеку. Однако редко кто из них протягивает руку, чтобы взять бесплатно отдаваемое с трудом нажитое чужое умственное достояние – ведь это всего лишь опыт и рекомендации, выведенные из него, а не деньги и имущество, от получения которых, по-видимому, никто бы уклоняться не стал. Плохо это? Плохо. Предостережения сторонних или родных людей ничем не помогут, ничему заблаговременно не научат. Следствием будут ошибки, которые можно было бы предотвратить. Но разве жизнь из-за этого остановится? Нет, безусловно не остановится. Она пойдет своим чередом как шла до сих пор – в том же режиме накопления опыта каждым, но только или главным образом для себя. Откуда же взяться подлинному и зримому прогрессу всей человеческой породы?
Каждый новенький начинает танцевать все от той же самой, образно говоря, печки, от которой стартовали предшественники, а вовсе не от другой, на какую хотелось бы рассчитывать, чтобы сделать основательный шаг вперед.
И еще однопричем чрезвычайно важное! – что для большинства людей оставалось в их практике неизменным – иго труда. Как должны были люди, будучи животными существами, повседневно заботиться о пище насущной, так другими, не зависящими от этой низменной животной потребности они и не делались, если не считать индийских святых мудрецов – садхи, умеющих обходиться без еды. Тирания труда обязывала людей в принудительном порядке выходить на работу, когда удобно государству или другому работодателю, а не им самим. Это было очень похоже на то, к чему принуждают заключенных, отбывающих каторгу, только вместо вооруженного и немедленно пресекающего попытки к вольности конвоя их приковывал к своей «трудовой тачке» страх – самый обыкновенный страх остаться без средств к существованию, усугубить до непереносимого предела и без того непреходящие трудности текущего бытия. Да, эта пара труд-страх постоянно тиранила все человечество везде, где бы оно ни обитало. Повсеместно требовалось искать, добывать, возделывать, транспортировать, продавать, руководить, воевать и истреблять каждому не сверхпривилегированному члену общества. В итоге все «выходили на работу» от царей и воротил бизнеса до рядовых рабочих, крестьян и проституток. И только некоторые из них – малая часть! – от пяти до шести процентов от общего числа трудящихся – работала с удовольствием, будучи увлеченными тем, что делают. Их не страшила работа – им было страшно другое – что их могут отлучить от дела на привычном излюбленном поприще. Впечатляющим представителем этой редкостной когорты людей был великий изобретатель, конструктор и аэрогидродинамик Ростислав Евгеньевич Алексеев, открывший эру кораблей на подводных крыльях и летающих над водой судов – экранопланов. Это был воистину мировой лидер, которому в собственном управляющем ведомстве чиновники во главе с министром Бутомой всячески вредили и препятствовали делать крайне важное государственное дело, а он его исступленно и фанатично продолжал, добиваясь неслыханных успехов, пока противники не нашли способ и повод покончить с ним раз и навсегда – отлучить его от руководства работами своего же, им же созданного конструкторского бюро, хамски передав его проекты другому лицу, подонку – и тем добиться, чтобы он умер еще во цвете творческих сил – всего лишь шестидесяти четырех лет от роду. Но это было далеко не единичное преступление верхушки власти подобного типа. У Михаила имелись серьезные подозрения насчет того, что и у творца – пионера космической техники Сергея Павловича Королева была по существу столь же горькая судьба. Его лрикончили с помощью операции, острой необходимости в которой не было. Саму операцию подготовили из рук вон плохо – не приготовили большого запаса подходящей крови, неправильно давали наркоз словом угробили в точности по тому же сценарию, который Сталин разработал для устранения Фрунзе, и которое было описано в «Повести непогашенной Луны» Борисом Пильняком-Вогау. Историю с Королевым Михаил знал из двух источников – из доверительного сообщения Оли, чей отец, профессор – терапевт, консультировал в кремлевской больнице, и из телевизионного выступления дочери самого Королева – врача по образованию. И к этому в недавнее время добавилось дополнительное знание насчет гибели выдающегося физика в области нелинейной оптики ректора МГУ академика Рема Викторовича Хохлова, судьба которого занимала Михаила в первую очередь потому, что он был еще и известным альпинистом. Раньше Михаил располагал только сведениями о том, что Рем Хохлов без должной акклиматизации отправился на восхождение на Пик Коммунизма (7495 м. над уровнем моря) – высочайшую вершину СССР. После выхода на заключительный участок пути он почувствовал себя очень плохо. Его сумели довести назад до Памирского фирнового плато, куда в свою очередь сумел приземлиться до предела разгруженный вертолет и эвакуировать его в больницу в Ош или Душанбе, где ему будто бы не сумели оказать достаточно квалифицированную медицинскую помощь, отчего он и скончался, хотя его и успели затем живого довезти из Средней Азии в Москву. Но эти сведения относились к 1977 году, то есть к «эпохе Брежнева». А через тридцать лет кое-у кого раскрылись рты, и клиническая часть этой истории стала после этого выглядеть совсем по-другому, да и предшествующая часть, относящаяся к самому восхождению – тоже.
Иван Богачев тот самый, который заявил в Федерации Альпинизма СССР, что не все члены команды мастеров под руководством Игоря Ерохина, в которую он сам входил, в полном составе взошли на Пик Победы (7440 м в Центральном Тянь-шане), как о том было заявлено, потому что старейшему в команде Ивану Галустову стало на подходе к вершине крайне плохо, и Ерохин отправил нескольких человек сопровождать Галустова вниз, когда до вершины оставалось всего метров 50 по высоте, после чего команда Ерохина подверглась административно-спортивному разгрому – так вот, тот самый Иван Богачев, оказывается, был другом Хохлова и его конфидентом на последнем восхождении. Богачев в телевизионной передаче, посвященной памяти Хохлова, признался, что Хохлов сообщил ему по секрету (в палатке они были вдвоем), что перед отъездом в эту альпинистскую экспедицию его вызывал к себе второй человек в КПСС – секретарь по идеологии Суслов – и провел с ним длительную беседу, говоря о том, что партия озабочена тем, что важные государственные и партийные проблемы решаются людьми, возраст которых не позволяет им в нужной степени соответствовать требованиям времени, и что назрела необходимость существенно омолодить командный состав. Сначала Хохлов решил, что в такой манере ему предлагают стать преемником академика Анатолия Петровича Александрова – Президента Академии Наук СССР, но все оказалось много-много серьезней – Суслов намекнул, что в Хохлове партия видит преемника генерального секретаря КПСС, дорогого Леонида Ильича Брежнева, уже очевидно впадающего в маразм. С этим Рем Викторович и отбыл на свое последнее восхождение, разумеется, не думая, о том, что оно непременно окажется последним, что, на взгляд Михаила, свидетельствовало о верности старой истины – «на всякого мудреца довольно простоты», хотя при желании и сам Хохлов мог бы догадаться, какой страшной опасности подверг его откровенный разговор с Сусловым, в сравнении с которой блекли постоянные опасности высокогорья: лавины, обвалы, срывы, высотная горная болезнь и все прочее.
Брежнев не был бы Брежневым на высшем партийном и государственном посту в течение восемнадцати лет, если бы не знал, о чем ведут секретные разговоры его ближайшие коллеги по политбюро, а Андропов не был бы главой КГБ и секретарем ЦК по вопросам обеспечения госбезопасности, претендующим на пост генерального секретаря без аналогичных знаний. Надо полагать, что ни Брежнев, ни Андропов не оставили конфиденциальную беседу Суслова с Хохловым без соответствующего внимания. А когда Рему Викторовичу стало плохо на высоте и героическими усилиями его успели довезти до больницы на вертолете (разумеется, как этого требовало положение VIP-персоны), за дело взялись, как оказалось, не какие-то провинциальные медики-неумехи, а специалисты высшей квалификации, обладатели богатейшего опыта в лечении подобных болезней, потому что больные такого типа к ним в руки поступали достаточно часто. И лечение стало быстро давать положительные результаты. После невольного пребывания в больнице у среднеазиатских компетентнейших медиков выздоравливающий Хохлов был по приказу из Москвы без консультации с местными врачами срочно перевезен в Москву, в Центральную клиническую (то есть кремлевскую) больницу, о которой весьма образно выразился в стихотворной форме поэт Александр Галич: «Полы паркетные, врачи – анкетные» – в смысле проверенные органами «от и до». И вот этими-то анкетными врачами в Москве было назначено совсем иное лечение, чем то, которое уже так хорошо помогало больному Хохлову – и об этом прямо заявила в той же передаче, где поделился своими откровениями Иван Богачев, вдова Хохлова, мадам Дубинина. Все ее попытки повлиять на их неправильное решение оставались без внимания. И дело было успешно доведено анкетными специалистами от госбезопасной медицины до заказанного свыше – как Брежневым, так и Андроповым – конца. Рема Викторовича не стало. И больше некого стало предлагать взамен дорогого Леонида Ильича вразрез с интересами Юрия Владимировича Андропова, ставшего следующим Генеральным секретарем после Брежнева, правда, всего лишь на один год, пока у него окончательно не отказались работать почки – точно так же, как до этого окончательно отказались работать мозги у дорогого Леонида Ильича.
Как видно из истории с Хохловым, тайны кремлевского двора могли вылезти наружу с самой неожиданной стороны. Кто бы мог подумать, что спортивное увлечение альпинизмом может иметь серьезное значение в расчетах и интригах грязных и немощных политиков в ходе борьбы за сохранение или достижение высшей власти? А что же с Королевым, который на высокие должности в управлении страной и партией никогда не претендовал – прежде всего потому, что это было ему совершенно неинтересно? Его-то зачем было убирать, тем более, что его имя вне сферы его профессиональной деятельности было совершенно не известно стране? Просто он был всего лишь безымянным Главным Конструктором космических кораблей (правда, первые два слова в титуле с заглавных букв)? А вот зачем. Королев был могуч в сознании собственной правоты, несдвигаем и неуправляем, когда речь шла о готовности его «изделий» к запуску к удобным с точки зрения коммунистической пропаганды срокам (обязательно к годовщине Октябрьской революции или к Первому мая), чтобы новые космические достижения СССР можно было подать всему миру как очередные подарки стране по случаю великого праздника. Королев мог и матом послать представителя ЦК и не принять прибывшего в ОКБ-1 генерального секретаря КПСС в своем рабочем кабинете, скрываясь от него «в цехах». Короче, слишком уж осмелевшего – до бесцеремонности! – Королева решили заменить кем-нибудь менее самостоятельным и послушным. А для этого удобнее всего было совсем его убрать. На радость Брежневу, ради удобства Андропова и на прямое благо «мирового империализма». Советская власть хорошо научилась избавлять себя от хлопот с самыми разными людьми, общей особенностью которых являлось одно: все они были увлечены своей творческой работой и реализовали свое высшее предназначение, к которому их призвали Небеса. Они являлись трудоголиками в высшем смысле этого слова, в максимально возможной степени используя свои дарования для того, чтобы распахнуть новые горизонты перед всеми людьми. Но их трудовой энтузиазм был бельмом на глазу у тех, кто занимался своими делами с достаточной долей отвращения и вовсе не хотел переутомляться, а что до открытия новых горизонтов – на это им было наплевать. Нет, конечно же, властям был чужд только тот тип трудоголиков, для которых это было желанное одухотворенное творчество, а вот в трудоголиках, занятых на стереотипной работе, они, наоборот: постоянно нуждались, всячески прославляли таких, если их удавалось найти, призывая остальных трудящихся следовать их «доблестному примеру». Ну, а если не удавалось, «министерство правды» (по Орвелу) легко могло их выдумать и вырастить даже без пробирки и без экстракорпорального оплодотворения исключительно методами «самой передовой в мире» идеологии марксизма-ленинизма.
Конечно, отворачиваться от собственных талантов и гениев умели не только в СССР и России. Опередивший своих коллег американский конструктор танков Кристи не нашел понимания на родине и продал образцы своих машин большевикам, а те уж, приложив к американским находкам Кристи и свои советские мозги, сделали, отправляясь от приобретенного прототипа, свой знаменитый танк военного времени «Т-34». Роберт Оппенгеймер, не найдя в США поддержки своей идее создать атомную бомбу раньше германских нацистов, еще перед войной обратился с тем же предложением к советскому правительству в лице Сталина и Берии (в доме последнего Оппенгеймер жил в условиях полной конспирации, в чем признался сын Берии Серго, бывший на переговорах переводчиком). На беду или на счастье Оппенгеймера (как знать) Советы не нашли возможности в то время заняться атомным проектом, они сделали это потом, когда уже серьезно отстали от Америки, Англии и Канады, объединенными трудами сделавших ядерное оружие.
Но в СССР и России отказы в поддержке реализации идей самых умственно продвинутых граждан случались все-таки много чаще, чем где-либо в странах с европейской цивилизацией. Это даже переросло в особую социальную тормозную систему, ведущую роль в которой играли профессиональные импотенты – доносчики и ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ. Одних – как Вавилова, Чаянова, Флоренского уничтожили, других, как Туполева, Мясницева, Бартини, Королева и Глушко подолгу держали в тюрьмах, лагерях и шарагах, которых выдергивали из «легальной» советской почвы либо с корнями, либо скашивая верхушки, словно это были сорняки, а не полезнейшие культурные растения. Немалый вклад в дело истребления армейских кадров и целых соединений внес выдающийся советский полководец Георгий Жуков.
Новые сведения, благодаря которым Михаил значительно продвинулся вперед в понимании личности и поведения маршала Жукова, сначала относились как будто не столько к нему самому, сколько к генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову. Он командовал некоторое время Западным фронтом, но не сразу. С самого начала Великой Отечественной войны этот фронт под командованием генерала армии Павлова бесславно отступал от границы на восток через Белоруссию к сердцу Европейской части России к Москве. Немцы успешно делали блиц-криг, свою запланированную молниеносную войну. Для исправления положения растерявшийся было от паники до полной недееспособности товарищ Сталин снял с должности и арестовал генерала армии Павлова и с ним еще ряд генералов, ответственных, как он считал, за крах на Западном фронте. Все они в скором времени были расстреляны. Таков был один из итогов первого этапа войны, который иначе, чем позорнейшим поражением Красной Армии назвать было просто невозможно. А если взглянуть на саму первую фазу войны и ее истоки с несколько более высокой позиции, то дело обстояло так.
Несметная масса советских войск – пехоты, артиллерии, танков, самолетов с соответствующими складами боеприпасов и всевозможного военного имущества по плану «гениального вождя и учителя товарища Сталина» была придвинута к самой границе СССР с оккупированной немцами частью Польши, а также к румынской границе. Сделано это было для того, чтобы ударить по Германскому Рейху, как только он изготовится к прыжку через пролив Ла-Манш в Англию, и еще лучше – когда этот прыжок будет совершен. Гений Сталина полагал, что Гитлер не сумеет понять его вероломный замысел, поскольку эти двое вселенских злодеев заключили договор о взаимном ненападении еще в 1940 г, известный под названием «пакта Молотова-Риббентропа», который развязывал как будто руки немцам для военного разбоя на Западе без опасения за свои восточные тылы. Гитлер сперва вполне серьезно полагался на этот договор (на этом основании Сталин считал, что обдурил Гитлера), но вскоре Гитлер узнал, что ему готовят чудовищный удар в спину, и в качестве превентивной меры нанес Советскому Союзу упреждающее нападение ДО того, как все стянутые к границе силы будут по-настоящему приведены в боевую готовность, доукомплектуются новой техникой и освоят ее. Опоздай Гитлер на месяц-два, как ОЧЕНЬ хотелось товарищу Сталину – и его участь могла бы быть решена очень скоро. Но Сталин спешил отмобилизоваться к войне так открыто, так грязно и безобразно (как по отношению к Гитлеру, так и к своим войскам), что вывел свои вооруженные силы, особенно личный состав, на стартовые позиции задолго до того, как можно было действительно стартовать (месяц-два – это было очень много!), и в результате опережающий гитлеровский удар пришелся по неорганизованным в достаточной степени советским частям и соединениям, по прифронтовым аэродромам, на которых была сосредоточена почти вся советская авиация, и по ближним тылам, где размещались командные пункты и всевозможные припасы. Ущерб Красной Армии был просто ошеломляющим. Введя в бой бронетанковые силы, немцы сходящимися глубоко проникающими в советские тылы клиньями взяли многие войска в оперативное окружение и дезорганизовали управление обороной, к которой, кстати сказать, советские доблестные полководцы и командиры совсем не были готовы – их учили только наступать. Итог разгрома был страшнейший, действительно ужасающий: в первые же дни немецкого наступления были взяты в плен около трех миллионов красноармейцев и командиров, потеряно не менее восьмидесяти процентов военной авиации (в основном на земле), захвачены в огромном числе артиллерийские орудия (которые часто нечем было транспортировать), танки без заправки горючим, склады оружия и боеприпасов и другие материальные ценности от шинелей до сапог.
Эффективно противостоять немецкому натиску оказалось некому и нечем. Сталин впал в транс или в ступор, поняв, что не он обманул Гитлера, а Гитлер переиграл его. План кампании, целью которой был захват и советизация всей Европы, в одночасье рухнул в тартарары. Сталин это понял сразу, а его начальник генерального штаба советских вооруженных сил – нет. Получив известия о событиях на фронте, он тут же выслал всем фронтам новую директиву – перейти в наступление и разгромить противника на его территории. Этим молодцом был бравый генерал армии Жуков, незадолго до этого славно разгромивший японские войска в Монголии, в районе реки Халхин-Гол; и получивший за это звание Героя Советского Союза. На посту начальника генерального штаба он сменил маршала Бориса Михайловича Шапошникова, который еще в царское время стал полковником генерального штаба и в этом звании провоевал всю Первую Мировую войну, то есть был образованным и компетентным специалистом своего дела. Однако весь план разгрома гитлеровской Германии, захватившей со своими союзниками практически всю континентальную Европу, кроме нейтральных Швеции и Швейцарии, одобренный и утвержденный Сталиным, на практике реализовывал не он, а Жуков. И фактически, и юридически Жуков являлся правой рукой Сталина в военно-стратегических вопросах и, в немалой степени, даже его мозгом, а, следовательно, и столь же виновным в страшном разгроме советских войск почти во всей приграничной полосе, как и главный вождь. Было очевидно, что немцы во главе с Гитлером вчистую переиграли большевиков во главе со Сталиным не только в силу внезапности (которой не было, поскольку Сталина предупреждали о дне нападения не только его надежнейшие агенты, но и политики – доброхоты от Черчилля до Чан-Кайши), высочайшей организованности и обученности германских войск, но и благодаря абсолютному превосходству мысли германского генштаба над советским. Каким бы ни был действительный уровень профессиональной военной компетентности генерала армии Жукова в канун войны – высоким или низким, а одно дело этот будущий «великий» полководец (впоследствии даже «величайший»), знал абсолютно точно: виновны в разгроме не Сталин и Жуков, боявшиеся привести приграничные армии в полную боеготовность и способность нанести противнику ответный удар, дабы этим «до времени не спровоцировать войну с Германией», а люди более низкого ранга. Командование всех уровней было запугано угрозой расстрела каждого, кто посмеет спровоцировать нападение немцев (это уже заранее сделал своими директивами Жуков), и оно послушно не приняло никаких чрезвычайных мер для подготовки к боям, даже когда сама напряженность на границе, да и добровольцы – перебежчики от немцев яснее ясного давали знать, что удар состоится двадцать второго июня 1941 года. Чего ж тут было удивляться, что советские войска были застигнуты врасплох?!
Еще лучше Жуков представлял себе и другое – как только Сталин придет в себя после стресса, он тут же начнет искать другого виновника катастрофы, но никак не себя – величайшего вождя, безошибочно ведущего советский народ к победе коммунизма в мировом масштабе. А тут и искать-то никого, собственно, не требовалось – вот он – виновник, действительный, а не мнимый – начальник генштаба генерал армии Жуков. Это он представлял Сталину все проекты военных действий. Это он, когда вместе со Сталиным, а когда и только от своего лица, выдавал директивы в войска, в том числе и обязывающие их к фактическому бездействию, это он предложил разоружить укрепленную полосу вдоль старой советско-польской границы – ведь если бы она была цела, немцы сходу дальше «предполья» перед ней не проникли. Это он затеял реорганизацию управления военными соединениями, переведя армейские структуры и функции на корпусные при всем том, что корпуса были еще только на бумаге и штатной техники не получили. Это он отдал в войска абсолютно невыполнимую директиву перейти в наступление против немцев тотчас после учиненного ими разгрома, что прямо свидетельствовало о том, что Жуков не имеет никакого представления о реальной ситуации на фронте.
Все это даже не требовалось представлять как преступную некомпетентность, халатность, неинформированность, беспечность и глупость товарища Жукова – все это имело место на самом деле, и, стало быть, он, Жуков являлся главным кандидатом на чрезвычайную расправу.
Короче, лично у Жукова было гораздо больше оснований для ужаса, чем у товарища Сталина. Тот было испугался, что его соратники по политбюро сбросят его как обанкротившуюся политическую и государственную фигуру, но они, льстецы, лизоблюды и посредственности, не решились это сделать, и генеральный секретарь ВКП (б), оклемавшись, сделал себя Верховным Главнокомандующим, а рука его рефлекторно потянулась к карающему топору палача.
Что было делать Жукову? Ждать, пока его после пыток не потянут на плаху? Нет, это не годилось. Значит, надо было срочно найти других виновников вместо себя. Главная катастрофа произошла на Западном фронте, в «хозяйстве» генерала армии Павлова. У этого «испанского» героя в подчинении были главные силы вторжения, а Он их бездарно и преступно дал разгромить, потерял управление войсками, короче – стал предателем и паникером, деморализовавшим разрозненные и понесшие огромные потери, но все-таки еще очень не маленькие по уцелевшему личному составу войска, беспрерывно отступавшие сначала по Белоруссии и из Прибалтики, а затем и по российским просторам в направлении Москвы и Ленинграда. Нет никаких сомнений в том, что именно так, спасая собственную шкуру и трясущееся от страха нутро, начальник генерального штаба Жуков твердым голосом докладывал товарищу Сталину. По не вполне понятным причинам товарища Сталина ТАКАЯ постановка вопроса удовлетворила. То ли потому, что кроме Жукова он уже не видел вокруг себя других способных военных деятелей (а тот совсем недавно хорошо проявил себя на Халхин-Голе), поскольку в припадке паранойи сам отправил в расход или заключил в лагеря не менее девяноста процентов прежнего подготовленного высшего командного состава от маршалов Егорова, Блюхера и Тухачевского до командиров полков включительно.
Даже если из остатков старых кадров на службе и остались способные в воинском отношении люди, они были запуганы и деморализованы репрессиями, бушевавшими к ним вплотную и уже ни на что не годились в качестве инициативных командующих (этого-то Сталин как раз и добивался). А Жуков, гляди-ка, на Халхин-Голе не растерялся. Прибыв туда, он сразу кого надо расстрелял, бездарностей, допустивших создание угрожающего положения для советско-монгольских войск, с помощью Сталина изгнал за пределы театра военных действий – вот и поправил дело, дав наступательный импульс войскам. Может, ему снова такое удастся?
Да, вождь с усами мог поверить в вероятность повторения такого сценария. А что ему, собственно, оставалось делать? Не маршала же Тимошенко, рубаку и пулеметчика, ставить во главе генштаба, хоть он и нарком обороны. И уж тем более не Ворошилова и Буденного. Первый провалился еще в войне с Финляндией. А второй так и остался сидеть в кавалерийском седле в сопровождении пулеметных тачанок против танков – одно горе с этими «умниками» в современной войне.