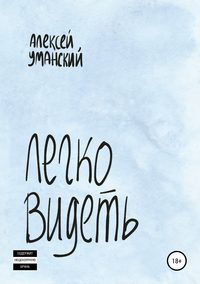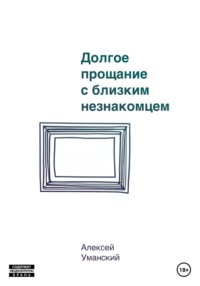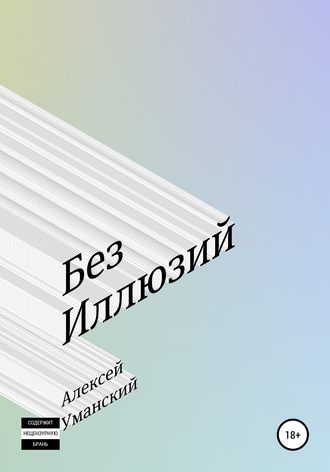
Без иллюзий
Лишь в возрасте семидесяти двух лет (значит, Грише должно было бы стать уже семьдесят три) он в каком-то репортаже по телевидению, посвященном церкви барочного стиля возле Чистых Прудов позади главного почтамта, увидел беседу корреспондента с печального вида женщиной в очках, которая что-то говорила по поводу церковной проблемы, и вдруг внизу экрана высветились титры «Татьяна Баранович, прихожанка». Михаил знал, что выйдя замуж за Гришу, известная ему Таня Баранович, кстати, тоже постоянно носившая очки, не изменила девичью фамилию. Однако по происшествии стольких лет Михаил не мог определенно сказать, та ли это Таня, которую он знал, как Гришину жену, или другая, но все-таки больше склонялся к тому, что как раз та самая. Судя по тому, что репортер интервьюировал даму по церковному делу, она была выбрана для беседы не случайно, а как член, если так можно выразиться, «церковного актива». А что в России заставляет высокообразованную женщину-интеллектуалку регулярно посещать церковь, если не безвременная утрата дорогого человека, о котором безмерно скорбит, желая ему в то же время попасть сразу в Царствие Небесное, или если кто-то из близких настолько занедужил, что осталась надежда только на Милость Божию, поскольку все другие доступные средства исцеления не дали положительного результата. Скорбный вид прихожанки Баранович заставлял предположить скорее первое, чем второе.
– «Неужели Гриша?» – содрогнувшись, подумал Михаил.
Неужели его школьный друг, часто служивший ему опережающим примером, такой здоровой в сравнении с ним, Михаилом, в школьные года, раньше него покинул этот мир, который во время Гришиной сознательной жизни отнюдь не был для него скорбным, скорее наоборот – интересным, комфортным и приятным? Что могло ускорить уход такого человека, какая причина в доступном для понимания людей виде послужила тому, что такой все правильно понимающий и так правильно поступающий в жизни здоровый мужчина мог оказаться по другую сторону от того бытия, которое его вполне устраивало, причем скорее всего – до исчерпания его жизненных сил? Или Михаил все-таки что-то неправильно понял?
Значит, мысленно представляющаяся Михаилу картина заседания ученого совета на мех-мате МГУ по случаю вероятного присвоения ему степени доктора Honoris Causa (которую зять Толя в веселом и презрительном тоне именовал не иначе, как Ханурик Кауза) за простое доказательство теоремы Ферма с Гришиным участием осуществиться, скорей всего, уже бы никак не могла. А он-то уже мысленно представил, как с искренним удовольствием прилюдно обнялся бы с другом, ничуть не сомневаясь в том, что узнал бы его почти через полвека, независимо от того, кем бы Гриша ни стал – академиком, член-корром или просто профессором и доктором настоящего достоинства, а не Хануриком Кауза, как он, Михаил.
М-да. Жизнь в старости оставляет у человека все меньше иллюзий. Вот и еще одна на глазах растаяла безвозвратно, если не считать, что сразу две: и Гришу Любимова, видимо, не обнимешь, и заседания никакого не будет, где тот мог бы присутствовать в качестве члена совета.
Ну, а если посмотреть на вещи шире – и притом прямо правде в глаза, то на самом деле следовало бы расстаться со всеми иллюзиями вообще: и родственными, и творческими, и социальными.
До того, как Света закончила Юридическую академию, Михаил с радостью и благой надеждой думал, что его внучка и воспитанница станет если не продолжательницей его дела (на такое он, честно говоря, все же не рассчитывал), то, по крайней мере, сделается его добровольной добросовестной душеприказчицей и издаст каким-либо образом его работы – как литературные, так и философские – в память о деде. Но уже следующие после окончания Академии годы не оставили камня на камне от его надежд. Не требовалось затрачивать много усилий, чтобы понять – дед скорее неприятная, зачастую ненавистная фигура в том раскладе сил, который имел место на домашней шахматной доске. С одной стороны, там стояли бабушка Марина, против которой Света не решалась изливать свое недовольство и зло, и дед Михаил, в отношении которого она уже не испытывала никаких моральных неудобств, а с другой, стороны находился столь милый ей альфонс, обладающий над ней магической властью, и сама Светлана, уже хорошо представляющая, как ей строить свою дальнейшую самостоятельную жизнь, не допуская никакого влияния извне, особенно же со стороны деда с его давным-давно надоевшей всегдашней правотой. Когда власть альфонса над Светой иссякла под чарующим воздействиям внезапно появившегося в ее жизни Антона, и отношения с дедом внешне как будто бы нормализовались, Михаил не очень расслабился – по меньшей мере – не в той степени, чтобы прежние иллюзии насчет Светы вернулись в его воображение. Он и раньше не готовил ее специально в свои восприемники, просто думал, что судя по развитию и расположению к нему девочки, потом девушки, так может получиться само собой. И впрямь – к этому были определенные «показания», как выражаются медики, но иногда, как шило из мешка, выскакивали и другие признаки, уже совершенно противоположного толка. До поры – до времени Михаил старался не придавать им большого значения, хотя они все-таки его огорчали, но потом оказалось, что это отнюдь не случайные выпоры шила сквозь материю благожелательства, а закономерные длинные, жесткие и острые колючки, выросшие из субстрата никуда не девавшейся после расставания с альфонсом и унаследованной от него ненависти и потребительской расчетливости, которую постоянно культивировала в ней мать. До известной степени Света была слугой и орудием двух чувств к деду – любви и ненависти то одновременно, то попеременно. В конце концов этот факт пришлось безоговорочно признать и Марине, пришедшей к аналогичному убеждению не в результате уговоров Михаила (он и не уговаривал), а в результате собственных наблюдений как за внучкой, так и за ее матерью (о последних она рассказывала мужу не всегда). Где уж тут было разбегаться в мечтаниях насчет того, как она сохранит духовное наследство деда! А на дочь Аню он и вовсе никак не рассчитывал ни до, ни после того, как разочаровался в Светлане. Какие иллюзии можно было питать в отношении человека, для которого суммарная ценность всего, что отец сделал в литературе и философии, значила меньше простого факта, сделали ли младшие дети – Поля и Коля – уроки на завтрашний день по всем предметам, или того хлеще – не сдвинет ли муж Толенька брови, узнав, что она как-то там хлопочет (собирается хлопотать) насчет сохранения духовного наследства тестя – ишь, умник выискался, ему еще в историю путь открывать! А кому она обязана посвящать все свои усилия? Может, думает, что не ему, не мужу? Для него и так нож острый в сердце сознавать, что кто-то умеет думать лучше, чем он. А она что? Об этом забыла?
Но нет – свои обязанности перед Толенькой и детьми, а также перед свекром и свекровью Аня не забывала никогда. А на другое ее и не оставалось.
Старший сын Тани, Антон, слишком долго напряженно учился под контролем матери в частной спецгруппе с лучшими преподавателями, которых только можно было достать за деньги для пяти учеников ради уверенности родителей, что они сделали все, чтобы их дети стали великолепно образованными людьми. Три европейских языка! Два мертвых: латынь и древнегреческий, математика, литература, история, география, биология – все в исключительных объемах! А в итоге у парня отпало всякое представление о своей ответственности за собственные дела. Когда не стало каждодневной тирании матери в отношении его занятий, Антон отдыхал от них в полную меру. Он с таким удовольствием ничего не делал по программе, что дважды едва не вылетел из педагогического института, где вдруг испытал острое отвращение к ботанике, а затем и с философского факультета, куда его по большому блату определила мать, и где он прослыл таким шалопаем и лоботрясом, что только соединенными воздействиями Ани и бабушки Лены удалось убедить знакомого декана и заведующего кафедрой западной философии дать ему шанс еще раз сдать заваленный предмет. Неизвестно, чем бы закончилась его учебная эпопея, если бы на факультете он не познакомился и не полюбил лучшую студентку курса и гордость факультета Юлю, которая тоже его полюбила и взяла в свои умелые руки. И Антон сумел закончить полный курс факультета – притом очень неплохо – скорей всего потому, что вырвался прочь из-под материнского гнëта. Впрочем, и Аня вздохнула с облегчением, когда Юля и Антон поженились и стали жить абсолютно отдельно от родни с обеих сторон. Ни с какой философией их трудовая деятельность связана не была, а кормились они в рекламном деле вполне прилично, и это их обоих устраивало, и больше им было ни до чего.
О младших внуках – Поле и Коле, хотя они уже стали старшеклассниками, наперед гадать было бы просто глупо. Поленька, прелестная юная особа, еще только погружалась в мир, суливший заинтересовать ее новым делом – любовью, а остальное ее занимало мало, да и то из-под маминой палки, а ее младший брат Коленька (или Николаша) пока даже до предощущения любви еще не дорос. И он не горел желанием заниматься уроками без маминого контроля, хотя она и любила его больше дочери. Можно было безошибочно сказать, что ошибка с воспитанием и образованием Антона мать троих детей ничему не научила. Она готова была повторять ее раз за разом с каждым из своих чад. В ней сидело что-то несгибаемое от бабушки Зины, матери Михаила, только помноженное на расширенные возможности обучения каждого ребенка, открывшиеся перед Аней в семье члена политбюро. Она не могла понять, что толку от образованности из-под палки не получится, а заинтересовать детей учением, как ни стремилась, так и не смогла – не хватало для этого ни фантазии, ни изобретательности.
Так что со всеми прямыми потомками в смысле наследования ему по духовной части был, как говорится ныне, полный абзац. То есть вакуум. То есть безнадега. Рассчитывать же на какую-то случайность (вдруг, например, преобразится Поля или Коля, о которых наперед еще ничего не известно) было несерьезно.
Оставалось смириться с тем, что написанные им труды могут проследовать, минуя человечество, по единственному адресу, зато по самому главному – Господу Богу, которому одному благоугодно было решать, пускать ли их в человеческий оборот или не пускать, а если и пускать, то когда. А потомки…А потомки ни на что не годились ни для кого, кроме самих себя и своих детей, от которых они тоже, скорей всего, ничего хорошего не дождутся.
Могут ли люди мечтать о наступлении лучших времен на Земле, точнее – смеют ли они об этом мечтать, если сами не стараются стать лучше, а с постоянной любовью к собственным персонам остаются такими же, какими они были едва ли не от начала времен? Михаил давно осознал, что нет, не смеют, и, собственно, только благодаря этому начал пытаться изменить себя к лучшему. Хвастать успехами в этом деле было почти что нечем, но все-таки некоторую поддержку себе не изнутри, а извне он определенно почувствовал. Это ощущалось по итогам многих поступков и событий, в основном не очень значительных, но заканчивающихся благополучней, чем можно было ожидать. Например, когда его однажды укусила гадюка, которую он даже не заметил в траве, он с помощью Марины обвязал ужаленную в палец руку, быстро опухшую и сразу же разболевшуюся, сырым болотным мхом – сфагнумом корнями к коже, и это сразу значительно уменьшило боль, хотя опухоль держалась долго, а кожа пошла синевато – багровыми пятнами, напоминавшими о вероятности гангрены. В больницу он не поехал, наперед зная, что противоядия от яда гадюк там нет. Оставалось надеяться на Милость Божию, и она была явлена. Опухоль, пятна на коже и боль окончательно прошли в течение недели. И, сравнивая свое выздоровление с помощью моховых обкладок с тем, как ему удалось вылечить от укуса гадюки в голову своей тогда совсем молодой собачки Яны – а на это ушло два часа после того, как они с Мариной обложили Янину голову сфагнумом и прибинтовали, после чего Михаил остался держать Яну на руках, чтобы она не сорвала повязку – он понял, до чего людской организм и его защитные системы несовершенны в сравнении с собачьими, потому что за два часа у Яны полностью опала опухоль, собака повеселела, поела и пошла гулять!
Имели место и другие происшествия, исход которых вполне мог обернуться куда хуже, чем вышло на самом деле. Вот из всего – то этого Михаил и сделал вывод, что его старания удерживаться от сомнительных поступков и побольше трудиться, совершая благие дела, как бы ни были малы его успехи, все-таки неизменно оценивались благими воздаяниями, и в итоге он теперь гораздо лучше, чем прежде, представлял, какие его деяния угодны Богу, а какие нет.
Приближаясь естественным образом к последнему рубежу, Михаил все чаще сравнивал в мыслях людей своего поколения со следующими. Как и у большинства стариков во все времена, его выводы в общем были не в пользу потомков. Отчасти это легко объяснялось тем, что дети обычно остаются должниками родителей, так же как те всегда остаются должны уже своим предкам. Но это была только одна сторона дела. Другая же никогда не становилась предметом пристального внимания – потомки слишком часто когда с безразличием, а когда и с яростью отвергали от себя духовные и культурные постижения и достижения предков, с легкостью пуская их в распыл или предавая забвению. Такую обиду было труднее простить, чем долги детей и житейские знаки пренебрежения. Ведь по существу дети сами обкрадывали себя, причем по самым ценным статьям, даже не отдавая себе в этом отчета. Сиюминутное увлечение пустышками занимало их гораздо сильней, чем ценнейший опыт прожитых и самооцененных жизней матерей и отцов, которым те от души хотели наделить чад своих, дабы лучше вооружить их против невзгод и уберечь от прегрешений для их же блага. Но вот по части готовности воспринять опыт предков у молодых сменщиков не происходило ни малейших подвижек. Наоборот – трещины между поколениями только расширялись – и притом все быстрей и быстрей. Если от библейских времен до девятнадцатого века и начала двадцатого возраст одного поколения составлял примерно двадцать пять лет, то с ускорением прогресса цивилизации и техники он снизился до семнадцати – двадцати уже во второй половине двадцатого века, а в двадцать первом грозил дойти до двенадцати – пятнадцати лет. И причина заключалась не столько в физической и гормональной акселерации детей новых поколений в сравнении с прежними, хотя, конечно, это тоже влияло, сколько в возрасте проявления неприятия и отвержения детьми ценностей из прошлых жизней – и прежде всего людского опыта, а также в том, что и родители все с большим трудом оказывались способны осваивать то новое и действительно ценное, что появилось в обиходе детей. Но и эти новые несомненные ценности часто несли в себе если не убийственные, то серьезно обедняющие натуру человека последствия. Если массовая автомобилизация грозила начисто отучить людей ходить пешком, то массовая компьютеризация и устремление людей общаться через Интернет с успехом выхолащивала из них проявления живых чувств, предоставляя взамен куцые стандартные символы – имитаторы живых эмоциональных реакций типа восклицаний «вау»!, «смайликов» и тому подобных убожеств, начисто убирающих трепетность из того, что можно ощутить при реальном личном общении или при чтении письма, написанного рукой от души. Да, самая интимная и дорогая сенсорная часть человеческого существа подвергалась все более безжалостному изгнанию из обихода, и никто не опасался, что таким образом люди сами затрудняют себе путь к счастью, если вообще не рискуют утратить возможность достижения такого возвышенного эмоционального состояния вообще, а без него какое может быть ощущение счастья? Вот по этому-то параметру, по его неуклонному уменьшению предки и вынуждены были приходить к неутешительным выводам насчет судьбы потомков. И если Лермонтов сказал: «Печально я гляжу на наше поколенье, его грядущее иль пусто, иль темно», то относительно следующих поколений можно было бы смело добавить, что пустоты и тьмы в их жизни с ходом времени только прибавится.
Это в равной степени касалось богатых и бедных, образованных и неученых, культурных и бескультурных. Даже если кто-то внутри ощущал себя человеком прошлого века, все его социальное окружение не позволяло ему полностью посвятить свою деятельность жизни в атмосфере тех ценностей, которые были ему особенно дороги.
Социальный стандарт в приложении к каждому гражданину означал предъявление к нему вполне определенных конкретных требований как положительного, так и отрицательного характера почти ко всему, внутри чего человек существовал: к одежде (в зависимости от моды и места появления), к образованности, к поведению в различных ситуациях, к табу, которые предписано уважать, находясь в обществе, к самоограничениям, на которые рекомендуется пойти ради достижения всеобщего блага в будущем.
Однако стандарт почти всегда задавал только нижнюю планку того или иного положительного человеческого качества, а потому многие члены общества, освоив этот минимум, просто не находили нужным расходовать свое время и силы для достижения большего – им уже и так всего хватало, и никто, точнее мало кто, понимал, что этого только КАК БУДТО хватает, потому что столь скудный минимум не может обеспечить пришествие Царствия Божия на грешную землю, в возможность которого люди так страстно хотели бы верить, а лучше сказать – так страстно хотели бы этого для себя. Нашлось немало наивных дураков, особенно у нас в России, которые согласились с наивными или же, наоборот, циничными и расчетливыми лгунами – пропагандистами, что для всеобщего счастья надо СНАЧАЛА построить соответствующий специальный институт и соответствующую специфическую социальную формацию, которая и позаботиться, чтобы все ПОТОМ стали счастливы. Ну что ж, ничего не скажешь – попробовали. Строили царствие, но оказалось, не для себя, а для политбюро и всех структур, благодаря которым оно утверждало себя вопреки общественным интересам и благу. Терпели строительство светлого будущего под научным названием «коммунизм», долго, очень долго отказывая себе ради этого очень во многом, почитай – во всем, пока не изуверились в возможности возведения здания коммунизма, едва не похоронившего под собой массу рядовых подневольных строителей.
В чем же была главная ошибка и главная коренная ложь руководителей порочного социального переустройства мира, если отвлечься от их реальной поставленной перед собой цели – захвата власти над всем человечеством? А все в том, будто можно кого-то сделать лучше и осчастливить со стороны, извне, тогда как единственный правильный способ мог быть только прямо противоположным – сначала всем (конечно, по возможности всем) делать лучше себя, изживая, выдавливая из себя по каплям раба и господина, завистника и ненавистника, зазнайку и спесивца, жадину и безмерного эгоиста – вот ПОСЛЕ этого можно получить, да и то лишь умозрительно, шансы на то, чтобы построить гармоничное общество Всеобщего Счастья. А когда во главе общества строителей коммунизма стояли гнусные эгоисты с неразвитыми, а то и вообще потухшими слабомыслящими мозгами, на какое гармонично развивающееся общество можно было рассчитывать? Только на такое, какое в разные времена описали Томазо Кампанелла в «Городе солнца», Джордж Орвелл в «1984 году», Олдос Хаксли в «Этом дивном прекрасном мире», Евгений Замятин в романе «Мы» и Андрей Платонов в «Котловане», «Ювенильном море» и других вещах, а в действительности – даже еще хуже – как у Солженицына «В круге первом» и в «Архипелаге ГУЛАГ», у Варлама Шаламова во всех произведениях, у Анатолия Жигулина в «Черных камнях» и у Олега Волкова в «Погружении во тьму». Так что о счастье народном – в смысле простонародном – лучше было бы не заикаться даже тем, кто как будто припеваючи жил при «развитом социализме» дорогого Никиты Сергеевича и дорогого Леонида Ильича, не говоря уже об императоре товарище Сталине.
Ну, а о «счастье», как будто легко достижимом для очень состоятельного человека в постсоветские времена, красноречиво свидетельствовал случай, о котором в одном из телевизионных ток-шоу рассказал пожилой врач, не то психиатр, не то психоаналитик. Его пациент находился в развлекательном круизном плаванье на борту собственной яхты. По словам пациента, у него был «полон трюм самых красивых проституток», но однажды он вышел на палубу с бутылкой виски в руке, и вдруг ему стало все так отвратительно, что он со всего маху приложился бутылкой по мачте, вторым ударом вскрыл себе вену. Очевидно, в тот миг, когда он подчинился вспышке очевидности, которая высветила в его мозгу бессмысленность сразу всего: богатства, комфорта, развлечений, красивых продажных женщин и отпускаемых ими за деньги ласк, потому что во всем, чем он владел, не было ни настоящей любви, ни подлинного достоинства. То есть ничего такого, ради чего действительно хотелось бы продолжать жизнь и притом не нужно было бы взбадривать себя приятным шелестом долларовых банкнот, алкоголем и целой выставкой голых наемных женщин. Наверно, ему припомнилось, что он находился куда ближе к счастью, когда жил по-простому, ничего особенного не имея: ни роскошных машин, ни собственной яхты, а то и самолета, ни замков в Приморских Альпах и в Адалузии – короче, без всей той пыли, которая пудрит мозги тебе же самому, хотя на нее и слетаются всякие псевдо-друзья, охочие до халявы и денег, услужливые специалисты любого профиля и поразительные красавицы, для которых ты желанный партнер до тех пор, пока у тебя не кончатся на них деньги или ты сам больше не захочешь им платить. Кто бы мог заранее заподозрить, что так получится, когда ты отринешь от себя существование в скудости и ограничениях и перед тобой распахивается весь мир?
Хочешь – и на тебе: Карибы, Багамы, Сиамы, Мальдивы.
Хочешь – и на тебе: сафари, жирафы, слоны, львы, кенгуру, анаконды.
Хочешь – и на тебе: водопад Виктория и Ниагара, Тибет и Гималаи.
– и все без какого-либо приложения усилий ног и рук, не переставай лишь отстегивать банкноты из толстых пачек. Долго ли все это сможет радовать тебя?
Заплатил – посмотрел всякую разную экзотику, среди которой жить не захочешь.
Заплатил – завладел движимостью и недвижимостью, которыми – это наперед знаешь – не сможешь пользоваться чаще раза в год неделю – другую.
Заплатил – и можешь пихать свой член в женщину куда захочешь, не интересуясь, понравится ли это ей или нет.
Но сколько же можно выносить такое? Все, что можно купить, достается без боя. Ничего не надо добиваться – либо вынимай из кармана кэш, либо пиши сумму прописью в чеке – и этого достаточно. А все, что не продается за деньги, для тебя становится еще более недоступным, чем прежде: здоровье и бодрость без стимуляторов, любовь по влечению души и без корысти, культура и радость познания того, чему по естественному влечению посвящаешь себя и от чего ждешь не денежных дивидендов, а воспарения духа.
Когда-то кое-что из всего этого было с трудом, но доступно, а теперь нет – деньги хватко оттаскивают прочь от всего этого, потому что ты уже служишь не своим, а их интересам, одеваешься, питаешься и развлекаешься по регламенту, который предписывают они для таких же своих подданных, как и ты, потому что иное с их денежной точки зрения совсем неприлично. Деньги со всех сторон наблюдают за тобой, караулят тебя, чтобы ты, упаси Бог, их не унизил: все должно быть самое дорогое: и особняки, и яхты, и бляди из самых шикарных борделей или из столь же дорогих ресторанов, где они дежурят в ожидании клиентов, подобных тебе. И попробуй не подчиниться этим уродским правилам – ты же в своем кругу окажешься чужим человеком. А почему все это ДОЛЖНО нравиться тебе, лично тебе, а не твоим деньгам? Почему на НИХ должен сойтись весь твой белый свет? Ведь и у тебя внутри под любой версачной одежкой сохраняется собственное естество, которое ты по какому-то дурацкому стечению внешних обстоятельств уже не имеешь права по-своему удовлетворять! Ведь даже не говоря о любивших тебя порядочных женщинах, разве не может дешевая начинающая бедствующая проститутка дать тебе большее услаждение, чем женщина из заведений для элиты, которая получит от тебя несколько тысяч евро за ночь или несколько десятков тысяч за непродолжительную сексуальную сессию во время морского круиза? Не обязательно, но может – потому что у нее из-за вынужденности занятий этим делом еще не очерствела и не отлетела душа, особенно если она в тебе увидит человеческое к ней отношение, но ты себе и эту возможность пресек! Тебе не к лицу покупать дешевок!
Нет, неспроста пациент доктора из телешоу от ненависти к своему бытию, которое шаг за шагом пакостит ему имеющимися сверх – деньжищами собственную душу, ебанул бутылкой сначала по мачте, а потом по себе. У него имелись веские основания поступить подобным образом, только права такого не было – Бог, Создатель, не дал. А ведь допекли человека угнетающие мысли вроде бы не тогда, когда ему должно было бы быть особенно плохо – он все – таки совершал ненапряженное приятное плавание, дышал свежим воздухом, развлекался и «оттягивался» с женщинами, мог любоваться морем и видом острововкорочеотдыхать, а не работать ради умножения денежных запасов и собственности, то есть исхитряться обманывать, обдуривать кого только можно, ибо дополнительными деньгами в своем обиходе могут стать только чужие деньги после того, как ты их присвоишь. Вряд ли даже успешное ведение этого процесса может дать столько же удовольствия, сколько расслабляющее необременительное плавание. И все же – по видимости совершенно нормальный в прошлом человек предпринял попытку суицида, когда возможности приятного отдыха были далеко еще не исчерпаны. Как будто бы он, мягко говоря, поторопился, если уже был крайне недоволен всей своей жизнью – ну хоть дождался бы окончания приятной полосы перед тем, как возобновить опостылевшее существование, нацеленное на добывание денег. Однако вот и дожидаться не стал, не захотел.