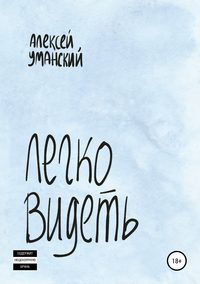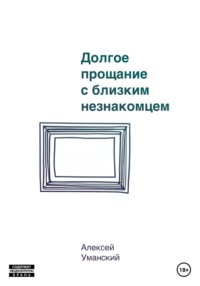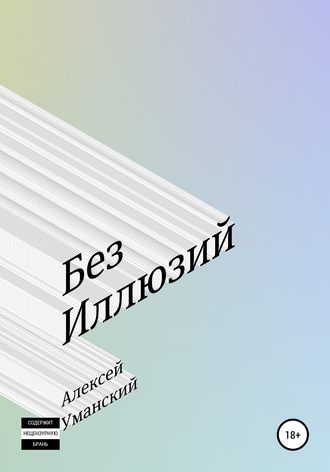
Без иллюзий
На это Некрашов без промедления выдал прямо как контр-удар: – «Да вы любого фижика жа пояш жаткнете!»
Похвала, конечно, абсолютно не соответствовала самовосприятию Михаила, хотя, с другой стороны, он был уверен, что Некрашов врать не умет и не будет, особенно в таком малозначащем случае.
Уж какие непроявленные способности Николай Викторович разглядел у Михаила, отправляясь всего лишь от немногих проявлений догадливости, так и осталось неясно. Надолго. Практически навсегда.
И до того самого момента, когда, Михаил осознал, что до получения им простого доказательства теоремы Ферма в свои семьдесят два года, никаких других проявлений сколько-нибудь серьезных математических способностей ни он сам, ни окружающие в нем так и не замечали (конструктивное использование распределения Брэдфорда для определения потребностей информационных фондов в коммуникациях между ними для достижения удвоения и даже утроения полноты информации по запросам пользователей информационной сети, предложенное Михаилом еще во время работы в центре Антипова, в счет не шло).
А после того, как теорему Ферма Михаил счел доказанной в той же простой и остроумной манере, в которой впервые доказал ее автор, Пьер де-Ферма, у него в голове мелькнула мысль, а не выпадет ли ему в таком случае удостоиться чести получить в каком-либо университете, возможно и в МГУ, который так и не стал для него «родным», степень почетного доктора наук – Honoris Causa – по математике? Такая ситуация показалась – разумеется, только умозрительно – очень забавной. С одной стороны, получалось, что степень почетного доктора могла бы достаться лицу, никак не причастному к профессиональной образованности в области математических наук, что в нормальной ситуации следовало бы расценивать просто как нонсенс. С другой стороны, оставить без внимания факт получения простого доказательства теоремы Ферма только через 367 лет после самого Ферма, если, конечно, оно будет признано за Михаилом, тоже было бы неразумно и неприлично, в то время как из него можно было бы сделать на время предмет национальной гордости. В таком случае существовала вероятность получить приглашение на торжественное заседание ученого совета, где ему могли бы выдать на руки диплом с мантией и квадратной в плане шапочкой, приличествующими почетному доктору. Там ему предложили бы выслушать хвалебные мнения ученых, а потом – высказаться самомуразумеется, с благодарностью за оказанную честь. А стоило бы ему благодарить за признание, особенно в университете, куда его не приняли учиться? Воздать ли им за это хоть чем-то? Или оставить без внимания? Или только вроде как с юмором упомянуть о том, насколько он счастлив, что ему выпала почти такая же судьба, как величайшему оперному композитору Джузеппе Верди, которому отказали в приеме в консерваторию, ныне носящую его имя, по причине отсутствия способностей к музыке? Можно было бы добавить еще, что неисповедимы пути Господни, приводящие одних прямиком к избранной цели, тогда как других – по много раз изломанный кривой к какой-другой. – кому как выпадет по Воле Божией.
Вот его школьный друг и одноклассник Гриша Любимов, который, если он жив и здоров, вполне мог занимать место в президиуме торжественного заседания, уже как глубокоуважаемый Григорий Александрович Любимов, ныне, скорей всего академик или, как минимум, член-корреспондент – доктором он сделался давным – давно – лет сорок пять тому назад. Вот его научный путь и вообще вся карьера шла прямиком, тогда как путь Михаила был достаточно извилист и внешне не больно успешен. Завидовал ли Михаил Гришиной судьбе, такой по видимости удачной и рационально устроенной? Нет, не завидовал, наоборот – радовался везению, причем вполне заслуженному, своего друга. Было довольно странно, почему они вдруг так сблизились в старших классах. Гриша по завету своего погибшего отца – полковника с отроческих лет серьезно занимался бегом на лыжах в ЦСКА и в восьмом классе выиграл практически всесоюзную юношескую лыжную гонку на приз «Пионерской правды». Спорт превратил его в атлета с красивой фигурой, впечатление от которой не портили даже очки, которые он постоянно носил из-за близорукости. Возможно, сойтись в одну компанию, которую они сами окрестили «квартетом литераторов», на почве любви к русской литературе и ее преподавательнице Тамаре Николаевне, Грише Любимову, Гоше Гиммельфарбу, Марику Ливишцу и Мише Горскому действительно помогла общность их впечатлений от новой учительницы, появившейся в девятом классе. Она только что окончила Педагогический институт, была всего лет на шесть-семь старше своих учеников, а потому они очень быстро сблизились во взаимных симпатиях. Общей точкой общения, естественно, в первую очередь стала литература. Ни мальчики, ни Тамара Николаевна не использовали литературу в качестве пристойного покрывала для их особого, душевного общения. Легкая влюбленность была, конечно, у всех мальчишек. И симпатия к ним, большая, чем обычно, у Тамары Николаевны тоже была. Приятная эйфория от необычной привязанности стала особо дорогой стороной их школьной жизни. К восьмому марта парни подготовили своей наставнице подарок – купили вскладчину только что вышедший из печати «Толковый словарь русского языка» Ушакова в четырех томах и поднесли фото-портрет самой Тамары Николаевны, который сделал Михаил, тогда как остальные участники купили багет и вставили фотографию в раму. Тамара Николаевна была очень растрогана ими всеми вместе и каждым в отдельности. Она уже была замужем, но это не помешало Грише влюбиться в нее по всей форме. У Михаила и Гоши уже были свои любови к девушкам-сверстницам, поэтому их чувство к учительнице было в достаточной степени платоническим, тогда как у Марика дело пошло не совсем так, как у них. До того Первомайского праздника, когда старшие классы тоже были посланы демонстрировать свое полное единство с родной коммунистической партией и советским правительством, когда весь квартет держался рядом с Тамарой Николаевной, а потом она, уединяясь с каждым из них во встречных дворах, удостоила особым индивидуальным горячим поцелуем, Марик не устоял, и вслед за Гришей влюбился в литературную богиню на полном серьезе, в то время как Гоша и Михаил устояли. Было ли целью Тамары Николаевны сблизиться с каждым из своих питомцев – выпускников, одолевало ли ее специфическое любопытство, подталкивавшее к выяснению, на что способен в любви не только Гриша, но и остальные милые ей мальчики, потому что у каждого из них была своя прелесть: Гриша был умница, брюнет и атлет, Гоша – красавец – блондин с вьющимися волосами, симпатяга и удалой молодец, Марик подвижный и красивый юморист со светлым завитым чубом, Миша – лучший знаток литературы и искусств, самый мечтательный юноша во всем квартете и также блондин? Возможно, Тамара Николаевна опережала в своем развитии то время, в которое ей довелось появиться на Свет Божий и заблистать на мальчишеском небосклоне. Это ведь теперь никому не показалось бы сверхстранным, чтобы молодая привлекательная женщина устроила личную жизнь сразу со всеми членами своего кружка, да и предосудительным – тоже не очень. Мало ли кого какие сейчас устраивают браки или сексуальные игры, в которых партнеры не только не переживают, что они не единственные обладатели своей пассии, но даже и радуются за нее и за своих друзей – коллег, вместе с которыми общими силами доводят ее до сверх-оргазма, заодно получая и свой? Но тогда…Тогда это показалось бы недопустимым не только родителям мальчиков и «общественности», которые даже в страшном сне не могли бы представить себе любовь ученика и учительницы в простой паре, не то что с четырьмя или двумя участниками ее любовных развлечений. Это спустя четверть века времена изменились разительным образом. Теперь и Михаил в умозрительном плане не увидел бы ничего плохого, если бы образованная, искушенная в любовном искусстве дама ввела бы сразу всех учеников своего квартета в чертоги любви как действительно любящий наставник. Но тогда, пятьдесят два года назад, он полагал иначе, и, повинуясь долгу дружбы, рассказал Грише о том распаляющем поцелуе, который получил от Гришиной любимой, и Гоша тоже признался ему в этом, а Марик – нет, поскольку попал-таки под страшные чары, с которыми уж не мог или не хотел совладать. Винил ли Гриша Марика за то, что он изменил дружбе? Михаилу казалось – нет, потому что Гриша по себе знал силу воздействия Тамары и своего ответного тяготения к ней. Какая тут дружба устоит, если ТАК любишь? А вот со стороны Тамары это был удар, да не единичный, а тройственный. Другое дело, что два из них оказались неэффективными, но еще-то один сработал – и не просто в пользу Марика, а против того, кого она клялась, что любит! Любит вообще и притом больше, чем мужа! Нет, к этому нельзя быть готовым в восемнадцать лет без специального сексуального воспитания. И Гриша понес на своих атлетических плечах угнетающую, раздавливающую тяжесть любовного обмана, любовной измены, крушения будущности его великой любви. Михаил понимал это и старался в меру сил содействовать тому, чтобы Гриша все выдержал, потому что сам уже знал, что взамен любви, не принесшей счастья, возникнет другая, если достойно выдержишь и перенесешь всю боль предшествующей душевной травмы. Грише, судя по всему, поддержка Михаила не казалась лишней. Это укрепляло их близость, однако к поре начала дружбы не относилось. Хотя спортсменом Михаил был практически никаким (разве только бегал быстро на коротких отрезках пути, а выносливости ни скоростной, ни какой-либо другой вообще тогда не имел совершенно), у них быстро обнаружились сходные интересы. Это была еще не вошедшая в моду для серьезной реализации тяга к путешествиям на суше и на море. А что могло бы быть привлекательней для мальчишек-романтиков, чем путешествия по воде под парусами? И вот здесь-то Гриша уже был практически знаком с делом, о котором Миша только мечтал. Гришина мама, Александра Ярославна, приходилась родней крупному ученому-аэродинамику и авиаконструктору Виктору Федоровичу Болховитинову, академику академии наук СССР. Однако Гриша чаще называл его либо дядькой, либо генералом. Так вот, после победы над Германией генералу досталась реквизированная у разгромленного врага крейсерская парусная яхта с мотором на случай безветрия или попадания в критическую обстановку. Каждую весну вместе с командой яхты Гриша шкрабил, шпаклевал и красил ее корпус свежей краской, чтобы она не старела душой и легче шла в любой ветер, занимался такелажными работами, а потом под водительством дяьки-генерала или своего ровесника и кузена Юры Екимова, в котором рано прорезался стратег и тактик парусной борьбы, участвовал в походах или соревнованиях. Юру Екимова Гриша почти никогда не именовал за глаза иначе, чем Хабеасом, причем, сколько Миша ни спрашивал, что это означает, вразумительных объяснений от приятеля так и не узнал. Вот о Хабеасе даже при заочном знакомстве с ним (впервые Михаил увидел его только после окончания школы) можно было твердо решить, что это человек, определенно рожденный для занятий математикой и теоретической механикой, чего Миша не мог сказать ни о Григории, ни о себе. Хабеас нередко настолько погружался в свои мысли, что отключался от окружающей обстановки. Однажды в таком состоянии он на улице налетел на столб и так сильно приложился к нему лбом, что только и приговаривал: «Хорошо, что пополам!» Когда его спросили, о чем он, Юра ответил: – «Хорошо, что в формуле кинетической энергии Е равно произведению массы тела на квадрат его скорости, деленному пополам. А то бы, наверно, череп не выдержал и треснул». Вот ему и без рекомендации академика-генерала был ясен путь на мех-мат МГУ, но генерал и Грише посоветовал сделать тот же выбор. Михаил не мог сказать, что Гриша являлся для него высшим авторитетом, но авторитетом тот все-таки был, и поэтому он тоже задумался о мех-мате. По собственной оценке он знал, что они с Гришей на поприще математики и физики примерно одного поля ягоды. А образование по данному типу могло подходить к массе разных специальностей, в том числе и к тем, которые считались инженерными. Да что было далеко ходить? Ведь сам генерал был и академиком и авиаконструктором, причем и там и там доказал всему миру свою полноценность. Видимо, даже сам Сталин считал его более чем полезным человеком в своем государственном хозяйстве, если не посадил, как и многих его коллег по самолетостроению, в тюрьму, особенно после того, как на самолете его конструкции пропал при попытке перелететь на четырехмоторной машине через Северный Полюс в Америку экипаж Сигизмунда Леваневского, хотя сам Виктор Федорович такого оборота дела ожидал и ни дома, ни на работе не расставался с чемоданчиком с необходимыми вещами, уж слишком обычным делом были аресты в любой сфере жизни в СССР, тем более, когда имел место громкий или скандальный повод (а как иначе можно было расценить провал одобренного Сталиным перелета, если не скандалом в глазах всего мира и провалом амбициозной большевистской затеи?).
Но, Слава Богу, генерал и академик Болховитинов смог теоретически и практически познакомить племянников Гришу и Юру с яхтингом, а потому и Гриша смог подробно объяснить Мише, как благодаря наличию у яхты развитого киля или шверта можно лавировать под парусами против ветра. Первый курс в разных ВУЗах не очень разделил Мишу и Гришу. Они виделись не очень редко, с интересом слушали друг друга о житье-бытье и даже решили в августе до начала второго курса вместе сходить в туристский поход по Карельскому перешейку, но незадолго до этого Грише предложили поехать в университетский спортлагерь Красновидово, чтобы тренироваться в легкой атлетике, и он согласился. У Михаила пропала охота ехать в незнакомое место без друга, но мама убедила, что там он быстро перезнакомится со всеми и ни о чем не будет жалеть. Так оно и вышло. И жалеть о том, что Миша отправился в поход, в дальнейшем пришлось уже не ему, а маме. Несмотря на то, что он то и дело был вынужден перемогаться и во время долгой гребли, и на пешем переходе под увесистым рюкзаком, для него уже не существовало другого полноценного способа отдыха и одновременно самоперевоспитания, чем походная жизнь – с восемнадцати лет и до самой старости. Больше они с Гришей не пытались скоординировать свой отдых, хотя и продолжали держать друг друга в поле зрения. После второго курса Гриша поехал на Кавказ в альплагерь и за две смены подряд заработал себе не обычный значок «Альпинист СССР 1-ой ступени», а третий спортивный разряд. Это было хорошим дополнением к его первому разряду по лыжам. От отца с довоенной поры у Гриши осталась разборная немецкая туристская байдарка, у которой все детали каркаса были деревянные, а резина красноватого цвета на оболочке великолепно сохранила все свои ценные свойства. Она была тяжелее появившейся где-то возле 1955 года первой советской байдарки «Луч» подобного же типа, но зато по живучести резины здорово превосходила «Луч». Гриша, обладая этим сокровищем, смог раньше Михаила заняться водными походами именно на байдарке, а не на деревянной лодке типа «Фофан», с которой Михаил хорошо познакомился в первом походе по Карельскому перешейку. Михаил в середине второго курса пошел в лыжный поход по Клинско-Дмитровской гряде от Александрова до Солнечногорска, после которого сильно полюбил лыжи, а в летнее время еше раз сходил пешком по Подмосковью от Сходни до Звенигорода, а потом в Дагестане от аула Гуниб-последнего оплота имама Шамилядо грузинских поселков Ахали-Сопели и Цинандали. Это был несложный, но все-таки горный поход, подавший ему второй сигнал (первым был вид заснеженного хребта Каратау, в котором, кстати сказать, отец его одноклассника Гоши геолог Борис Михайлович Гиммельфарб открыл мировые залежи фосфоритов) к тому, чтобы тоже заняться альпинизмом, как это уже сделал Гриша. Стремление в горы не было подражательством другу, хотя Михаил ничуть не пренебрегал тем, что именно Гриша подавал ему положительный пример, да и глупо было бы поступать иначе – кто из них был исконно спортивным человеком? – конечно, Гриша – не он же, Михаил, которому только занятия спортивным туризмом в студенческую пору помогли открыть для себя радость гармоничного развития тела и духа, тогда как Гриша для себя открыл это много раньше. Хочешь-не хочешь, а все равно получится, что подражаешь хорошему примеру, который он дает. Чего же тут, собственно, было стесняться? Михаил занялся альпинизмом в следующий летний сезон, и тоже всего за две смены заработал себе третий разряд, хотя между этими двумя сменами был промежуток величиной в семь лет. Зато в байдарку «Луч» он пересел за два года до того, как повторно втянулся в альпинизм.
Первый шаг в сторону горных лыж опять-таки сделал Гриша, но и на этот раз Михаил от него не очень отстал. А потом, с ходом времени, удаляющим их от прошлой школьной и институтской юности, Михаил совсем перестал отставать, когда речь зашла уже о сложных водных походах. Гриша женился на студентке Тане Баранович, когда сам уже был аспирантом, притом через три года после того, как Михаил женился на Лене. В этом деле он Гришу обошел, хотя оно было и не из числа спортивных. Правда, как считать – и Лена и Гришина Таня ходили с мужьями и на байдарках и в горы, и где-то в эти годы Михаил стал выходить в туризме вперед.
Гришина учеба, а затем и рабочая карьера складывалась исключительно удачно. Он сам и его кузен Хабеас кончили отделение механики на мех-мате по кафедре академика Седова. Только спустя много лет из воспоминаний другого академика – Андрея Дмитриевича Сахарова – Михаил узнал, что Леонид Иванович Седов участвовал в атомном проекте, занимаясь механикой взрыва, за что и был разнообразным образом вознагражден советской и академической властью.
Сразу после окончания мех-мата и Гриша, и Хабеас получили от Леонида Ивановича приглашение поступить в аспирантуру опять же на его кафедру. Приемный экзамен для своих избранников академик организовал следующим образом. Он пришел в аудиторию, где претендентам предстояло сдавать экзамен по специальности, отобрал своих ребят, сказав, что намерен проэкзаменовать их сам, и повел их в свой кабинет. Там он, по словам Гриши, поставил каждому из них по пять баллов и расписался в экзаменационной ведомости. Так элегантно Гриша взял первый важный профессиональный барьер – прямо – таки по щучьему велению, по Леонида Ивановича Хотению. Позавидовал ли ему Михаил? Да, но лишь немного и с восхищением – всякий бы так хотел устраиваться в аспирантуру, и хорошо, что такая удача выпала другу Грише, раз уж не ему, ни в какую аспирантуру не поступающему. Если он попал не на мех-мат МГУ, а на механико-технологический факультет ММИ, его возможности уже в силу одного этого факта в принципе отличались от возможностей выпускников кафедры Седова, ценимых шефом. Тут, в ММИ, все решалось по-другому. После возвращения из своих первых походных каникул на второй курс, Михаил не узнал института – в коридорах, на лестницах, переходах было не протолкнуться. Оказалось, в институт перевели инженерно-физический факультет какого-то Ленинградского ВУЗа, группы или факультет из физико-технического факультета МГУ в Долгопрудном, который в скором времени стал самостоятельным Московским физико-техническим институтом, инженерно-физические группы из МВТУ им. Баумана. Был срочно организован еще один факультет – № 4 – физико-механический. В этом новом составе групп институт просуществовал два года. Затем где-то наверху решили поручить институту подготовку специалистов по вычислительной технике. Реорганизацию провели очень быстро. На первом факультете учредили новые группы, а из состава старых перевели в них примерно половину студентов, тогда как других до конца третьего курса оставили в прежних группах.
По какому принципу производился отбор или перераспределение студентов, Михаил догадался не сразу. Успеваемость была тут явно не при чем. Но потом поступили сведения, что студенты трех групп прежней специализации будут переведены в МВТУ им. Баумана на четвертый курс тамошнего механико-технологического факультета, а сам ММИ будет преобразован и переименован в Московский инженерно-физический институт – МИФИ. Радости, прямо сказать, было мало. Ни один студент не выразил энтузиазма по поводу перевода в самый прославленный технический ВУЗ страны. Их родной институт собирались сделать еще более закрытым, чем до этого и, стало быть, переводимых в МВТУ студентов забраковали просто по анкетам. Что именно не понравилось органам, никто ничего не знал. Но тем, кто не желал переходить, пресекли всякую возможность остаться. Из всего состава переводимой части факультета отмотаться от перевода удалось только одному студенту, который незадолго до этого был переведен с инженерно-физического факультета.
В МВТУ из «новеньких» сформировали две группы для специализации в области прокатки и волочения. Марковская цепочка Михаила Горского преломилась еще один раз. Сама атмосфера нового учебного заведения показалась ему отличающейся в худшую сторону от ММИ. Дух казенщины, даже больше того намеренно бездушного отношения к студенчеству в деканатах и, что еще «интереснее» – в руководстве комсомольских бюро всех уровней – курсовых, факультетах и института просто бросался в глаза.
Нодеться некуда – надо было учиться и выживать в новых условиях, где хозяева смотрели на вновь прибывших с подозрительностью и свысока. И в целом переведенные из ММИ студенты доказали, что они ни в чем не уступают коренным бауманцам, а скорее даже превосходят. Причину Михаил находил в том, что самостоятельность мышления в условиях ММИ, где дышалось посвободнее, развивалась в большей степени, чем в условиях МВТУ.
На пятом курсе состоялось распределение студентов по местам будущей работы. Михаила комиссия упекла на Ташкентский кабельный завод, куда он все-таки благодаря усилиям тестя не поехал и получил новое назначение на Мытищинский «Счетчик». Это был новый излом Марковской цепочки – вместо работы по одной специальности предстояло трудиться по другой. Но, Слава Богу, как в ММИ, так и в МВТУ их готовили инженерами-механиками широкого профиля. Этот термин студенты демонстративно произносили врастяжку, нараспев, сопровождая расходящимися в разные стороны движениями рук: «Я – специалист широ-о-окого профиля!». Профиль, конечно, и в самом деле был ОГО-ГО! – и позволял справляться с разнообразной работой, только счастья от этого что-то не было видно. Если бы ко времени работы инженером у него не созрело увлечение литературным трудом, дальнейшая жизнь складывалась бы еще тягостнее. Переехав с Леной и Аней от тестя и тещи из Мытищ в Москву, Михаил обзавелся, наконец, новой работой, как он полагал – ближе к серьезному инженерному творчеству. Оказалось наоборот. Его Марковская цепочка снова изломилась в новом направлении. Общетехнические нормали авиационной техники, система чертежного хозяйства, система обозначений, разные положения, порядки и инструкции, регламентирующие деятельность конструкторов и производственные отношения. Важно ли было то, чем он по воле обстоятельств, поступив в ОКБС практически втемную, начал заниматься? Да, важно. Порой даже существенно важно. А интересно ли? За редкими исключениями – нет. А ведь отсюда выросла его профессиональная специализация фактически на все последующие двадцать пять лет, в течение которых он еще четырежды менял место работы, а Марковская цепочка от этого почти не изламывалась – шла почти по прямой, с легкими отклонениями то вправо, то влево – совсем как у Гриши Любимова от поступления на мех-мат до защиты кандидатской диссертации.
А вот у Гриши как раз после защиты диссертации произошли тематические изменения. Неугомонный ум академика Седова выбрал для себя и своей школы новое направление исследовательской работы – магнито-гидро-динамические генераторы энергии, коротко – МГД-генераторы. Гриша вкратце объяснил Михаилу, что это такое. Плазма, то есть материальная среда, состоящая не из молекул, как газ, а из обломков молекул, обладает магнитными свойствами, и если ее поток прогонять между магнитными полюсами с обмоткой, она будет генерировать в обмотке электрический ток. Плазма обычно существует при очень высоких температурах – например, на поверхности солнца находится «холодная» плазма, поскольку в ней «всего» 20.000 0С. И вот теперь для практического осуществления нового способа получения электроэнергии необходимо теоретически и экспериментально выяснить, как ведет или может вести себя плазма в различных условиях, как моделировать происходящие в ней процессы, как ее изолировать, ну и так далее. Это Михаил уже понимал. Академик Седов начал со своей школой все эти работы настолько вовремя, что он явно опередил американцев, и оттого американцы с большим рвением звали работающих по этой проблеме русских, в том числе и Гришу, к себе на всякие научные мероприятия в надежде вытянуть из них побольше того, чего еще сами не знают. Платили американцы гостям за их «любезное пребывание» очень щедро. Гриша привез из командировки массу всякой всячины – и спортивное снаряжение и разную аппаратуру, и пластинки с записями музыки, которых здесь не достанешь, и еще разное шмотье. Пребывание в Америке он проиллюстрировал также с помощью своего собственного кинофильма и слайдов. По всему чувствовалось, что Гриша поднялся уже на очень высокую профессиональную орбиту. У Михаила не осталось сомнений, что докторскую степень Гриша заработает столь же стремительно, без задержек, как и кандидатскую. Успех Гриши был понятен и закономерен, с какой стороны на него ни взглянуть. Он точно попал после школы в нужное образовательное учебное заведение к очень хорошему и дельному руководителю, постарался стать достойным представителем его школы, развивающим в частных направлениях общие идеи шефа, не выходя при этом за пределы отведенного сектора действий и демонстрируя благодарное подчинение шефу. Да и зачем ему, то есть Грише, было бы пытаться уходить от него или из-под него? Леонид Иванович Седов был ледоколом, проламывающим паковый лед по генеральному курсу, а свита его учеников разбивала обломки и расчищала фарватер для движения транспортных судов, нагруженных полезным грузом. Сам Гриша в одиночку такого никогда бы не достиг, и поэтому ему в заслугу следовало записать то, как он грамотно и точно выбрал стратегию своего поведения в том достаточно узком круге высокообразованных и успешных ученых людей, куда крайне неохотно пускают выходцев из других слоев общества, не соответствующих принятым в этом круге правилам хорошего тона независимо от того, талантливы они или не очень. Правильное отношение к корифеям, а также к их непосредственно приближенным лицам есть главный пропуск в возглавляемый ими круг. Гриша тщательно изучил эти правила и, соблюдая политес по всем его пунктам, был принят туда пока что на младшие роли. Это Михаил понял сам, когда узнал, что на майские праздники Гриша собирается в поход по реке Лопаспе. Заметив, что Гриша после этого признания сразу смутился и замялся, Михаил сказал, что не собирается проситься в его компанию, но хотел бы знать, может ли Гриша достать ему на время похода палатку в спортклубе МГУ. Это Гриша исполнил с облегчением и радостью. В пути по Лопаспе они с Леной и Соломоном Мовшовичем в двух местах встречались ненадолго с Гришиной компанией, и Михаил удостоверился, что правильно представлял себе ситуацию в ней, а также и то, что это для Гриши важный коридор к обители высшей научной власти. Там действительно были пожилые деятели, не желавшие расставаться с престижным и полезным увлечением самодеятельными путешествиями по воде, позволяющими сохранять в душе ощущение молодости; при них находились гораздо более молодые люди, как мужчины, так и женщины, судя даже по мелочам, весьма хорошо воспитанные. Среди них и находился Гриша со своей невестой Таней, принадлежавшей, как показалось Михаилу, к данному кругу по происхождению. Все эти подробности Гришиных практических действий ради дальнейшей карьеры Михаил воспринимал без удивления и без огорчения. Ему было ясно, что Гриша действует по уму, а он и дан человеку не для того, чтобы им пренебрегали. Раз в той части общества, куда он считает полезным для себя попасть, приняты такие порядки, то лучше для последующего успеха соблюдать их, а не пытаться вламываться туда с помощью грубой силы, оскорбляющей членов этого избранного сословия само́й непристойной грубостью ее природы. Но Михаил знал, что это лишь одна трасса, ведущая в высшие слои научного сословия, которой решил воспользоваться Гриша. В параллель он подготовил на всякий случай и запасную – которая и при Сталине, и при ныне действующем Хрущеве обещала едва ли не более серьезные гарантии успеха. Это был не очень уважаемый (а то и совсем неуважаемый) путь к овладению научными высотами, смотря по тому, кто возглавлял научную школу – вполне лояльный и обласканный властью лидер, или едва скрывающий нелояльность, даже если и обласканный, поневоле терпимый в силу необходимости человек, но Гриша освоил и этот путь – партийно-комсомольскую карьеру. Он последовательно и целеустремленно становился членом комсомольского бюро курса, потом факультета и, наконец, был признан подходящим активистом для включения в состав вузкома МГУ – так назывался комсомольский комитет всего университета, имеющего права районного комитета ВЛКСМ. И это было единственным, что Михаилу действительно не нравилось в Гришином поведении. Все остальное он делал верно. Окажись Михаил на Гришином месте, он скорее всего по многим причинам действовал бы так же, как он. Только вот делать карьеру в науке с привлечением к этому органов власти и политических демагогов, которые науку рассматривали только в качестве инструмента, без которого не могла бы долго существовать в этом постоянно изменяющемся мире никакая власть (хотя для нее было бы лучше, если б она могла обойтись), ему, Михаилу, бы точно было противно, а вот Грише – нет. Этот путь и его полезность был ясен ему со школьных лет. Но если в комсомол большинство вступало не из карьерных соображений, а просто ради ощущения полоноценности своего статуса в обществе (как в Германии мальчики и девочки точно по той же причине вступали в Гитлерюгенд), то уже во взрослом состоянии всем приходилось осознанно решать, хотят ли они продолжать быть (или хотя бы только считаться) активными проводниками бесчеловечной политики или нет. Эту важную точку принятия решения они с Гришей миновали разными путями. И опять-таки – это не стало поводом для того, чтобы разочароваться в Грише – просто это стало одной из многих причин, по которым жизнь разводила их по разным направлениям, пока они не перестали различать другу друга вдали. Несколько случайных встреч после этого были радостны для обоих, но в принципе ничего не меняли. Через одного из знакомых Михаил знал, что Гриша действительно стал доктором наук в то самое время, которое предположили они оба – один как заинтересованное лицо, другой – как любознательный наблюдатель. А потом и этот канал информации перестал функционировать, и Михаил лишь умозрительно пытался представить, когда Гриша станет членом-корреспондентом, но практически проверить свой прогноз не мог.