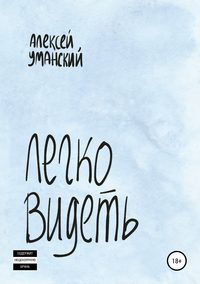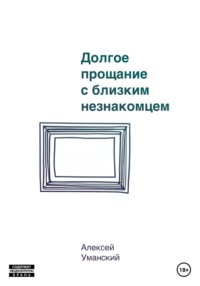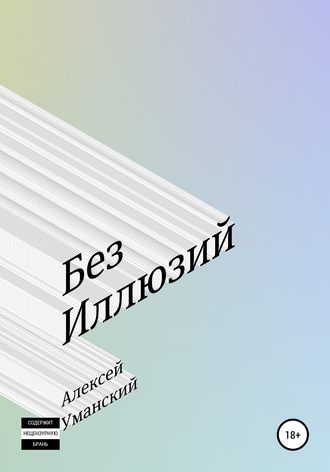
Без иллюзий
Это случилось в дальнем Забайкалье, в походе со сплавом по рекам Большой Амалат – Амалат – Ципа – Витим, куда Михаил с Мариной и ее сыном от первого брака Колей и с еще тремя спутниками отправились во второй год своей любви.
Прибыв из Романовки к началу маршрута, они застали низкую воду, едва позволявшую непрерывно двигаться по главной струе, да и то с неизбежными продирами оболочек. Пошли дожди и залили все Витимское плоскогорье, а уж с него-то, либо скального, либо сплошь покрытого мерзлотными грунтами, во»ды без задержки сливались в ручьи и речные пади, на глазах поднимая уровень рек. Сплав стал интересней и веселей, а кое-где он уже выглядел даже пугающе. На последнем участке маршрута после того, как Ципа сшиблась с Витимом у острой высокой скалы, которая осталась в памяти Михаила вздыбленным гребнем гигантского динозавра, они вдруг выскочили уже на очень широкую воду, где стесняющие реку хребты заметно отодвигались друг от друга. В предпоследний день сплава они остановились у стоявшего на якорях каравана моторных судов поговорить с экипажем. Выяснилось, что они стоят в ожидании спада уровня Витима – паводок был такой резкий, вода перла с такой скоростью и силой, что благополучно пройти нижние пороги, особенно знаменитый Парам, нечего было и думать. Получив от речников в подарок ногу лося и отдарившись консервами, они продолжили сплав и остановились на ночлег, зайдя немного вверх по притоку Витима Нижней Джилинде. Там на высоком берегу стояла хорошая тайга, и они быстро нашли подходящее место для бивака. Михаил проснулся очень рано, но почувствовал, что больше не заснет. Он тихо выбрался из палатки, чтобы не потревожить Марину. Коля спал крепко – его было трудно разбудить. Сумерки быстро отступали. Михаил взял ружье, спиннинг и столкнул байдарку на воду. Отойдя на несколько десятков метров от берега, Михаил взялся за спиннинг и начал блеснить. Уже после третьего заброса блесна за что-то крепко зацепилась. Михаил подгреб к месту зацепа и заглянул с борта вниз. То, что он там увидел, врезалось в его память на всю жизнь. Глубоко под ним сквозь удивительно прозрачную воду стояли довольно рослые деревья с зеленой листвой. Над верхушками самых высоких из них было по три метра воды, а от земли до поверхности, пожалуй, побольше десятка. Михаил никогда не думал, что может наяву увидеть что-то подобное картине, созданной сказкой Шарля Перо «Спящая красавица», где все жители королевства заснули на сто лет, но сейчас ему вспомнилась именно эта сказка – настолько находящееся внизу под водой не подходило для ведения нормальной активной жизни, будто там действительно все погрузилось в глубокий сон. Только не было там ни придворных, ни слуг, ни поваров. И даже листики на ветках деревьев почти не колыхались. Прибывающая вода Джилинды упиралась в воды поднявшегося Витима как в плотину и застывала на месте. Только здесь Михаил до конца убедился в том, какой фантастической силы и высоты могут достигать летние дождевые паводки в зоне распространения вечной мерзлоты. Это ведь было не весеннее половодье, когда максимальный подъем уровня вод вызывается быстрым таянием колоссального запаса зимнего снега, а всего лишь короткая дождевая сессия, не располагающая такими грандиозными водными ресурсами, как вешние половодья. И все же здесь они были соизмеримы и первенствовал по подъему уровней то один, то другой, Случайно ли, но несколько раньше в том же походе на бурной многоводной Ципе, не уступавшей по мощи Витиму, Михаила с Мариной поразил еще один невиданный феномен. Это была радуга, возникшая при них в полутора-двух десятках метрах у скального мыска, мимо которого они проносились со скоростью около двадцати километров в час. Никогда ни во сне, ни наяву радугу нельзя было представить себе иначе, чем исполинской многоцветной дугой, уходящей высоко в небо из оснований на земле, которых обычно даже не видно, настолько они отдалены от наблюдателей, а тут – вот оно – место рождения сказочного исполина, свершившегося на их глазах, едва унялся сильный дождь и мысок высветился на солнце! Того, что они увидели тогда на Ципе, Михаил не встречал больше нигде. Как нигде не заставал больше такого зрелища, которое дано было увидеть ему в иллюминатор маленького «Ан-2» при перелете из Багдарина в Читу над все тем же отнюдь не плоским, а очень даже рельефным Витимским плоскогорьем. Самолет шел на высоте порядка тысячи метров над скалами, приближаясь к перевалу, около которого, правда, чуть позже, казалось, что ему не хватит сил перескочить через седловину. Но пока еще дно воздушного океана находилось далеко, и тут стало видно, что в трех разных местах, находящихся на расстоянии пары-тройки километров друг от друга, перекинулись над долинами сразу три радужных дуги. Едва ли не больше, чем их числу, Михаил поразился их скромным размахам. Вместо обычных километров, разделяющих основания дуг друг от друга, здесь, видимо, были только сотни метров. Соответственно и высота, на которую поднимались эти символы благих предзнаменований, была очень много ниже высоты, на которой над данной местностью летел самолет. Сразу столько всего было необычным при виде этих радуг, что Михаил не вдруг собрался с мыслями, чтобы перечислить все удивительное в наблюдаемом про себя:
– во-первых, их сразу много – целых три – причем ни одна не дублирует другую небольшим сдвигом в сторону от основной, как обычно бывает на равнинах;
– во-вторых, они видны глубоко внизу, тогда как еще не было случая, чтобы на вершину радужной дуги не приходилось смотреть иначе, чем, задрав голову вверх;
– в-третьих, размах всех трех дуг был много меньше привычного;
– в четвертых, все они были одинаково яркой цветности и интенсивности, что тоже выходило за пределы накопленного опыта наблюдений.
Оказалось, что единственный, вошедший глубоко в сознание образ радуги, укоренившийся там, на самом деле вдруг перестал соответствовать привычному феномену, который оказался сложней и многовариантней того, который сроднился с другими представлениями о фундаментальных красочных ценностях жизни, да так там и закостенел.
Безусловно, в каждом походе, во всех в них без исключения, происходило эстетическое обогащение души. Новые памятные образы присоединялись к прежним, образуя и пополняя личную сокровищницу Михаила. Он бы мог вслед за великим художником Рокуэллом Кентом повторить: «This is my own» («Это мое собственное»), но предпочитал считать по-другому: «Это то, что Творец дал мне узнать сверх обыкновенного». Михаилу и в голову не приходило, что редкие явления наблюдал только он один, потому что где-то подобное выпадало и на долю других наблюдателей, но ведь даже и не очень редкие феномены могли поражать не меньше, чем действительно уникальные, как, например, случилось, когда он впервые увидел оляпку.
Маленькая серая птичка скакала по обледенелой гальке вдоль потока незамерзающего Баксана вблизи Терскола, как вдруг она сама, без какого-либо внешнего принуждения, кинулась в реку, а там стала быстро и непринужденно перебегать по дну Баксана от одного камня к другому, погружая в какие-то щели свой клюв. Набегавшись, она как ни в чем не бывало выскочила из воды на берег и вела себя так, будто с ней ничего особенного не произошло. Да так оно и было на самом деле. Она вела совершенно привычный для себя образ жизни, охоты и существования вообще. Она была создана для такого экзотического бытия, довольно неожиданного для маленькой птички, которой, как она это только что показала, был нипочем мороз в воздухе, холод и бурное течение под водой. Как она, то есть ее предки, приспособились к этому, было очень трудно себе вообразить. Но ведь приспособились же – это она уже продемонстрировала безо всяких особых приготовлений, доказав в совсем непринужденной манере, что мечта милитаристов сделать самолет, ныряющий под воду, или подводную лодку, способную вылететь из воды и продолжить полет по воздуху – не так уж безумна в принципе, как должно было бы показаться инженерам, занятым или проектированием только самолетов, или проектированием одних субмарин.
Еще одно диво явила Михаилу другая птица, побольше. Это случилось на реке Тёше в майском походе, начатом от города Арзамаса. Берега Тёши, на большом протяжении безлесные, казались скучными и не обещающими встретиться с чем-то особенным. Однако в конце концов и на Тёше обнаружилось интересное место. Там она текла под смыкающимися с обоих берегов кронами деревьев, как в зеленом тоннеле. Лишь кое-где в этой кровле зияли прорехи, сквозь которые к воде падали наклонные солнечные столбы света, а так в целом внутри тоннеля было довольно темновато. И вдруг Михаилу в глаза прямо-таки полыхнуло синим – действительно синим! – огнем. Он не успел даже понять, что вызвало странного цвета вспышку. Но вот новая вспышка в столбе солнечного света оказалась поближе первой, и он углядел необычную птицу. Ее оперение было синим, как в сказке. Оно-то и вспыхивало на солнечном освещении переливчатым огнем, и это преображение цвета казалось даже более поразительным, нежели бег оляпки по дну горного потока. Клюв у новой знакомой птицы был довольно длинным, но не тонким. Особым изяществом весь ее силуэт тоже не отличался, однако ее способность порождать вспышки синего пламени, заставляла забывать обо всем другом.
– Какая это птица? – спросил Михаил у спутников.
– Зимородок, – отозвалась Рина, занимавшаяся не только философией, но и биологией.
– «Вот, оказывается, как зовут волшебную птицу счастья», – подумал Михаил. Прежде он слышал о птицах этой породы, однако даже не подозревал, что именно они символизируют своим видом самую желанную человеческую мечту.
А еще через пять лет после встречи с зимородком другие птицы до крайности изумили Михаила, повторив в точности то, что люди умеют достигать только с помощью музыкального инструмента. На сей раз местом действия оказалась Тувинская котловина. Рано утром Михаил выбрался из палатки. Марина еще оставалась внутри. И вдруг до ушей отчетливо долетела правильная барабанная дробь. Кто отбивал на барабане ритм старой пионерской песни:
«Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал.
Он проснулся, перевернулся, всех фашистов разогнал».
Однако, естественно, там, откуда доносилась дробь, никакого пионеротряда не было, да и не могло быть. В этом пустынном месте Улуг-Хем, рожденный слиянием у города Кызыла Бий-Хема и Ка-Хема (Большого и Малого Енисея), еще не сделался собственно Енисеем, как его называли после вхождения в трехсоткилометровый горный каньон в Западных Саянах, прохождение которого, собственно, и было главной целью похода Марины и Михаила. Но если не пионеры, то кто выстукивал ритм на барабане? Наконец, Михаил заметил быстро приближающуюся небольшую, но крепко сбитую стайку малых серых уток, породу которых он не знал. Они летели прямо над галечным пляжем на высоте метров пяти, и не свернули с курса, прекрасно видя, что прямо перед ними в полный рост стоит человек. Вид у всех уток был предельно сосредоточенный и отрешенный – в этом у Михаила не возникло ни малейших сомнений. Передовая утка, лидер, своим клювом отбивала барабанный ритм, а все остальные послушным строем следовали за ней. Оставалось предположить, что музыкальное сопровождение предназначалось для выработки у молодых птиц наиболее рационального ритма работы крыльями во время перелета в теплые края через всю Азию – ведь уже подступала вторая половина сентября, а в Сибири морозы всегда начинались без задержки. Это было понятно. Но вот почему глава стаи не выбивала простой однотонный ритм как метроном, а выдавала настоящую ритмическую мелодию, догадаться было нельзя. Или встроенное в каждое живое существо чувство прекрасного заставляло искать нечто более тонкое из звуковых средств воздействия на психику тех, о ком заботишься, чтобы учеба давала больше проку – и в смысле памятности, и в смысле облегчения борьбы с усталостью в долгом-долгом и сложном перелете?
По мере накопления впечатлений от всего необычного, увиденного в природе, Михаил все чаще обращался к мысли о том, к каким выводам они его устремляют – неспроста же они переворачивали или расширяли многие представления, свойственные не ему одному. И все чаще на ум приходил ответ – косность взглядов при столкновении с любыми новыми явлениями, происходящими в мире, способна здорово мешать человеку в успешном познании Божественного Устройства Бытия, если он позволяет себе думать исключительно привычно, то есть стандартно, и не хочет взглянуть на действительность с другой стороны, кроме традиционной. Ведь следуя только привычным подходам, как будто бы вполне проверенным на практике, поневоле упускаешь из виду, что они потому и ограничивают познание, что слишком плотно привязаны к ограниченной человеческой или общественной практике и непродуктивны при попытках постижения неизвестных сторон Абсолюта.
Да, этот вывод Михаил, по-видимому, усвоил довольно крепко. Пожалуй, он даже незаметным образом перебрался из сознания в сферу подсознания или сверхсознания. Только этим можно было объяснить себе, почему порой – и не очень редко – ему удавалось находить решения таких вещей, с которыми не могли справиться никак не менее умные, но притом более образованные и, если так можно выразиться, специализированные люди. Пожалуй, наиболее определенно это проявилось в умственной работе над доказательством теоремы Ферма. В отличие от тех случаев, когда Михаил занимался логическим выяснением обстоятельств Чернобыльского взрыва, гибели Гагарина или подлодки «Курск», где было известно достаточно много начальных данных, чтобы на основе сопоставления и ассоциаций можно было сконструировать серьезную версию происшедшего, а затем последовательно доказывать ее, то с доказательством теоремы Ферма все было много лаконичней и сложнее: вот тебе исходное уравнение – и больше ничего, доказывай, если сумеешь – это уже пробовали до тебя тысячи людей в течение трех с половиной веков, но с той убедительной остроумной простотой, на которой настаивал автор формулировки теоремы, ее автор Пьер де-Ферма, не потрудившийся, однако, записать свое доказательство. Считалось, что теорему Ферма удалось мучительно сложным, громоздким путем доказать профессору математики англичанину Эндрю Уайлсу, которому и была выплачена обещанная премия. Факт доказательства, предложенного Уайлсом, был подтвержден некоторыми авторитетными специалистами, коих и среди математиков-профессионалов нашлось очень немного. Михаил никогда не подвергал сомнению факт Уайлсовского доказательства (для этого, как минимум, потребовалось бы знать ту математику, которую он использовал), хотя в мире остались скептики, не признающие победы своего удачливого коллеги. Но Михаила эти интриги совершенно не занимали. Его интересовало одно: можно ли получить то же самое остроумное и простое доказательство, которое уже совершил когда-то Ферма, во что Михаил истово априори верил, хотя скептики, сомневающиеся в этом, тоже, как говорится, имели место быть.
А началось все тогда, когда Михаил случайно обнаружил, что ничего слыхом не слыхал ни о самом Ферма, ни о его теореме. Ему шел уже сорок второй год, он еще работал в центре Антипова, когда в его лабораторию поступил по распределению молодой специалист, только что закончивший механико-математический факультет МГУ Сергей Борисович Говоровский. Сережа в первый день выхода на свою первую работу по найму выглядел крайне серьезным и озабоченным. Михаил невольно вспоминал себя в подобном же положении, когда сам восемнадцать лет назад появился на Мытищинском заводе электросчетчиков. Он тогда ждал того же, что и Сережа – что его сразу же включат в горячее дело, дадут серьезное поручение (считай что экзамен на комплексную проверку его компетентности) и будут следить за тем, как он справляется. Заявку в МГУ на выпускников мех-мата Антипов подписывал с большой охотой. Как и многим в ту пору, ему казалось, что поприще научно-технической информации еще не породило настоящих научных теорий именно потому, что на нем пока не потрудились математики – единственные специалисты, которые могли моделировать всевозможные процессы и ситуации, а без математических моделей какая может быть наука информатика? Сережа Говоровский был далеко не первым, кто попал в центр Антипова после окончания мех-мата.
До него тоже приходили умные и образованные ребята, да так и уходили, не оставив после себя ожидаемых моделей. Да и сам директор Антипов тоже ничего конкретного – в виде математического аппарата, способного хотя бы приближенно моделировать какие-то процессы – ничего не смог породить, потому что дальше слов-заклинаний насчет моделей дело и у него не шло. Оставалось надеяться на приход свежих людей и мозгов с их абсолютной непредвзятостью. Михаил относился к вопросу создания моделей, а тем более к пользе от них, мало сказать, что сдержанно. Он признавал, что если задать какие-то формализованные посылки для модельного описания с грехом пополам сейчас еще можно, то чем, какими данными можно насытить даже работоспособную модель, когда этих данных нет, поскольку статистика почти начисто отсутствует и не похоже, что сбор необходимых сведений, характеризующих как процесс, так и перерабатываемый в системе продукт в течение ближайших пятнадцати-двадцати будет налажен? Но жгучее желание Антипова и иже с ним к обладанию таким модным предметом, как модель, нельзя было унять одними соображениями о ее практической нереализуемости в имеющихся условиях. Можно было бы сослаться на пример прогнозирования погоды путем расчета на моделях вариантов ожидаемых событий, но ведь там-то исходные данные о погоде поступали со всех концов мира регулярно со строгой периодичностью, тогда как в системе научно-технической информации ничего подобного не существовало. И Михаил начал вводить молодого математика в курс реального положения вещей, стараясь, тем не менее, не создавать у него в голове ощущения полной безнадеги, и акцентируя его внимание на том, что, так сказать, абстрактные и не рассчитанные на практическое применение в настоящее время модели разрабатывать все-таки можно и даже в определенной мере полезно – ведь мысль всегда должна предшествовать целесообразным действиям. Тем более правильно, когда рациональная теория идет впереди ползучего эмпиризма. А потому Сереже лучше всего самому познакомиться с тем, что сейчас представляет собой система научно-технической информации и насколько она действительно является системой. Пока что она лишь в слабой степени перерабатывает – лучше сказать – слегка обрабатывает и переформатирует поступающую в нее исходную информацию в виде различного типа документов, и почти, за редкими исключениями, не производит ни их содержательной оценки, ни смысловой обработки – и в этом, скорее всего, и коренится главная трудность для разработки автоматизированных и, тем более, автоматических средств глубокой переработки информации. А непосредственно со смыслом документов информационные органы пока не работают и еще долго не будут работать, покуда мозговеды и лингвисты не выяснят, как мы думаем и во что, кроме слов, облекаем свои мысли. Сережа оказался человеком не только внешнего обаяния, работа мысли в нем чувствовалась ежесекундно. Поэтому он с легкостью освоил рекомендации Михаила, и между ними сложились отношения глубокой искренней симпатии – в чем-то средней между расположенными друг к другу старшим и младшим и между доверяющими друг другу равными по духу людьми. Это очень явно чувствовалось во время их бесед на самые разные темы. Однажды, говоря о чем-то, о чем Михаил уже и не помнил, Сережа, как будто заключая свой вывод, произнес – «ну прямо теорема Ферма». При этом незнакомом названии Михаил сразу внутренне напрягся – само по себе оно ни о чем ему не говорило, хотя он ощущал, что речь идет не о самой теореме, какой бы она ни была, а о смысловом или образном переносе какого-то ее характерного свойства на другой предмет. Значение этой метафоры можно было бы уяснить сразу, спросив у Сережи, что она означает. Обычно Михаил так и поступал, не маскируя своего незнания и не стесняясь его, но тут, как он чувствовал, сразу могла пострадать и увянуть та особая атмосфера полной доверительности, сложившейся во время беседы, когда Сережа привел какой-то очень близкий ему образ, целиком полагаясь на то, что собеседник его поймет.
Разрушить этот дух единения, столь ценный для обоих, Михаил не решился, но название теоремы запомнил. В дальнейшем Сережа неоднократно упоминал о теореме Ферма, и Михаил постепенно вытянул из него то, что при большей математической образованности мог узнать много раньше – это был живой символ давней недоказуемости. Но даже безотносительно к теореме Ферма у Михаила остались о Сереже Говоровском самые теплые воспоминания и уверенность в том, что тот где-нибудь проявит серьезную силу своего интеллекта. Но с тех пор, как Михаил оставил центр Антипова, они всего несколько раз общались по телефону.
Лишь в возрасте семидесяти двух лет Михаил узнал точную формулировку теоремы Ферма и историю попыток ее доказательства после решения проблемы самим Пьером де-Ферма. Как-то на досуге в деревне ему пришло в голову подумать, что может быть общего между конкретными уравнениями вида, a n + b n = c n соответствующими одинаковым целым числам а и в при разных, но обязательно целых значениях показателях степени n – таких, как:
a 2 + b 2 = c 2 ;
a 3 + b 3 = c 3 ;
…;
a n + b n = c n ;
…;
Сначала ничего общего, кроме изоморфной структуры, между ними не просматривалось. И вдруг Михаил понял, что общее между ними будет, если все члены приведенных уравнений в левой и правой части разделить на число с в соответствующей каждому из этих уравнений степени n:
a 2 /c 2 + b 2 /c 2 = 1;
a 3 /c 3 + b 3 /c 3 = 1;
…;
a n /c n + b n /c n = 1;
…;
А после этого простого преобразования Михаилу сразу бросилась в глаза парадоксальная ситуация, имеющая место во всех уравнениях, где целое число n было больше 2: формально в каждом из уравнений сумма отношений a/c и b/c в соответствующей степени n>2 была равна единице, а по сути являлась числом, меньшим единицы, если сравнивать ее с известной суммой тех же отношений в степени n=2 , которая в соответствии с теоремой Пифагора всегда представляет единицу: a 2 /c 2 + b 2 /c 2 = 1.
Михаил прибег к такой необычной форме публикации своего доказательства теоремы по следующим причинам.
Во-первых, и прежде всего потому, что он не был математиком. Одно это гарантировало ему неприятие со стороны значительной части мирового сообщества математиков, а, возможно, и всех. Кто он такой, чтобы иметь наглость заявить, что им сделано (впервые после Ферма) то, что не поддавалось лучшим математическим умам с 1637 года, то есть в течение 367 лет? Не может же быть, чтобы этот невежда – выскочка Горский или как его там, не допустил никакой ошибки в логике доказательства с точки зрения ПРАВИЛЬНОЙ методологии! И несогласные с его решением действительно быстро нашлись, хотя нашлись и вполне согласные.
Во-вторых, существовала очень большая вероятность, близкая к 100 %, что ему не дадут опубликовать свое доказательство ни в одном из специализированных математических журналов, чтобы широкие слои лиц, заинтересованных в знакомстве с простым и кратким доказательством теоремы Ферма, соответствующим, образно говоря «завещанию» ее автора способом, в корне отличающимся от сверхсложного доказательства этой же теоремы Эндрю Уайлсом объемом в 130 страниц, опубликованного в 1995 году, дабы не уронить честь профессионального математического мундира.
В-третьих, из уважения к памяти великого французского математика Пьера де-Ферма, Михаил хотел бы, чтобы доказательство теоремы, данное им, было бы впервые опубликовано на родине де-Ферма, то есть во Франции.
Однако вслед за этим желанием пришло весьма отрезвляющее соображение: Франция, издавна известная своими славными математическими традициями и умами (даже Михаил знал поименно ряд многих из них: Огюстен Коши, Гийом Лопиталь, Эварист Галуа, Анри Пуанкаре, Пьер Лаплас, Жозеф Лагранж, Жан Д / Аламбер, Николя Бурбаки) наверняка не будет обрадована тем, что рожденная на ее земле теорема окажется доказанной чужаком, тем более – почти что неучем.
А потому французские рецензенты будут жаждать его крови не меньше, чем их коллеги из России, Англии, Германии, Израиля или США.
А в том, что именно такой «горячий прием» будет ждать его статью в любой математически авторитетной стране, Михаила убеждала принципиально сходная ситуация, с которой столкнулся автор одной теории, весьма неудобной для его коллег-физиков. Фамилия этого человека звучала для российского уха несколько странновато: Шабетник, если не догадаться, что это фонетически более близкое к исходному еврейскому архетипу слова, вполне понимаемому и на Руси – субботник. Из радиопередачи о нем Михаил услышал, что Шабетник был научным сотрудником Физического института Академии Наук (сокращенно ФИАН) и в ходе своих исследований пришел к выводу, что во Вселенной, которая доступна нашему изучению, господствуют и определяют ее устройство электрические Кулоновские силы, тогда как гравитационных Ньютоновских сил на самом деле в природе нет. Естественно, из рассказа автора теории, Шабетника, в рамках всего лишь научно-популярной радиопередачи Михаил не мог уяснить себе его аргументацию. Но он живо представил себе то, что и прежде весьма его интересовало: в чем причина абсолютной изоморфности формул определения величины силы гравитационного притяжения масс у Ньютона и силы взаимодействия электрических зарядов у Кулона: