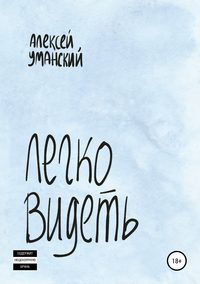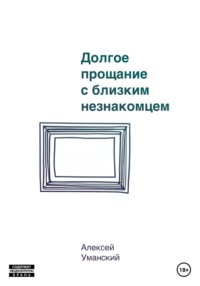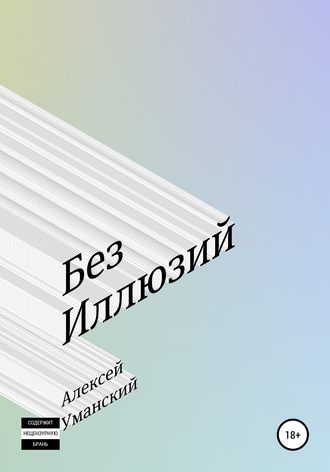
Без иллюзий
Если кому-то этого казалось мало, то не Михаилу. Он давно пришел к выводу, что более высокого вознаграждения не существует ни для кого из творцов. Затертые слова, точнее – кажущееся далеко не абсолютно верным утверждение Михаила Афанасьевича Булгакова «рукописи не горят» (сколько их на самом деле обратилось в пепел!) обретали точный смысл только в одном аспекте – они навеки негорючими и несгоревшими остаются в безграничной памяти Всеведущего Творца вне зависимости от того, что случается с ними в мире смертных людей.
Конечно, творцы, оставшиеся без посторонних внешних свидетелей и документальных подтверждений, обречены на риск получения обвинений во лжи, в злонамеренном подлом обмане со стороны любых недоброжелателей и скептиков. Ярчайший пример такого рода – горькая судьба великого американского путешественника доктора Фредерика Кука, первого человека, достигшего Северного Полюса в 1908 году и гнусно оболганного соотечественником командором Робертом Пири, неоднократно пытавшимся совершить то же самое, но так и не совершившим. Этот завистник, убедивший себя, что честь первооткрывателя Полюса может принадлежать только ему, поднял в прессе такую кампанию, привлек на свою сторону столько могущественных покровителей, что с их помощью на десятилетия обманул весь мир, будто бы он достиг Полюса в 1909, а Кука в 1908 «там не стояло». Однако последующие десятилетия не прошли даром. Год за годом полярные исследователи накапливали факты, подтверждавшие правильность сообщений Кука о феноменах ледовой обстановки по его маршруту и лживость версии Пири. Кстати, единственным авторитетным человеком, который поверил Куку и не поверил Пири, был еще более великий путешественник Роал Амундсен, за что ему устроили бойкот со стороны общественности Соединенных Штатов. Доктор Кук подвергся также и другим обвинениям: будто бы он не совершил первовосхождения на вершину горы Мак-Кинли и будто бы его нефтеносный участок земли в Техасе после продажи другому владельцу оказался пуст (за это Кука даже посадили в тюрьму, где его и посетил Роал Амундсен). Но впоследствии новые восходители шаг за шагом убеждались, что все наблюдения Кука на пути к вершине верны, и даже нефть на якобы «пустом» участке была-таки найдена. Лично доктор Фредерик Кук на этом свете реабилитации по всем обвинениям не дождался. Его реабилитировали в глазах общества и всего человечества свидетели из следующих поколений. Надо думать, за его честность ему воздалось только в Мире Ином. А ведь наверняка бывали и другие случаи неверия честным людям, обвиненным во вранье, чью правоту земные люди так никогда и не признали. Что они только не претерпевали в пору гонений, каким только изощренным и беспардонным обвинениям и издевательствам они по невежеству обвинителей не подвергались! А все отчего? Раз ты совершил нечто выдающееся без компетентных свидетельств, то ты все равно как ничего не совершил, а потому «молчи в тряпочку». Можешь тешиться мыслью, что ты прав, только это никого не волнует. Для нормальных людей, которых ты не смог «обмануть», ты все равно останешься вралем вроде барона Мюнхгаузена или капитана Врунгеля.
Да. Далеко ходить в поисках обвинителей не требовалось. Случалось и Светлане обвинять дела во лжи, хотя он в жизни никогда ее не обманывал. Конечно, это бывало не по поводу открытий и серьезных свершений Михаила, не выходя за пределы плоскости бытовых претензий, но ведь бывало – в силу жгучего желания усмотреть свою, а не дедову правоту. До поры ей даже не было за это стыдно, а примирительные слова из нее потом выходили с трудом, а главное – с опозданием.
Михаил больше не верил в родство их умов и душ. Он убедился, что любимой внучке нет дела до истины, если Истина ей не удобна. Не такой он ее растил, и она действительно росла не такой, пока вдруг не преобразилась в другую – чужую и в каком –то смысле даже чуждую личность, с которой не то что родственных, но и вообще каких-либо контактов не хотелось иметь. Так минуло года два. Общие разговоры случались только вокруг собак, которых у них в семье уже стало четверо. Пожалуй, лишь о собаках они могли говорить, не заботясь о самоограничениях, об отсутствии или наличии интереса у собеседника к этой теме, поскольку для всех членов семьи это было по-прежнему очень важно. Во всем остальном общение уже нисколько не напоминало прежнее. Теперь оно смахивало скорее на отрывочные фразы, которыми обменивается квартирант с квартирными хозяевами. Потом прошел еще год, который Света прожила без альфонса с Антоном. И только после несостоявшейся свадьбы с проигравшимся женихом, когда на авансцене в их доме появился Денис, в Светлане стали заметны некие признаки того, что она желает вернуться к прежним отношениями с дедом. Что ж, это было приятно, но не особенно радостно. Михаил уже определенно знал, что прежнего расположения к внучке уже не вернуть, хотя он не перестал ее любить и никогда не желал ей зла. Воспитывать Светлану, как он это делал в детстве, не имело смысла, мириться с тем, что теперь ему в ней не нравилось, он тоже не собирался. Больше всего Михаила поражала даже не грубость, проявлявшаяся в ее поведении далеко не каждый день, а зримая атрофия любознательности, которую прежде было так приятно наблюдать и развивать. В возрасте, наиболее пригодном для того, чтобы насыщать свое сознание и память как можно большим множеством представлений о значимых для своего развития вещах, Светлана занималась почти исключительно своей работой по найму, а если делала что-то еще, то это была учеба на курсах при академии им. Плеханова (в просторечье в «Плешке»). От ее развлечений, не очень и частых, тоже не разило увлечением ценностями культуры. На знакомство с материалами гламурных журналов тратилось куда больше времени, чем на выставки, театры, даже кино. К чему прикладывался способный интеллект, Михаил уже просто не понимал. Еще до «нормализации отношений» он отправил с Мариной из деревни в Москву поздравления Свете с двадцатипятилетием. Он вполне искренно отметил все лучшее, что успело проявиться в ней к этому знаменательному возрасту, отметил – опять – таки в качестве ее достижения – что у него теперь пропала всякая охота давать ей советы по какому-либо поводу, потому что она теперь в полной мере сама себе голова, а в заключение вместо обычных слов «Крепко целую. Твой любящий дед Миша», употребил новое выражение: «Крепко целую. Твой дед и бывший тренер Михаил Горский». По свидетельству Марины, наблюдавшей за чтением Светланой дедова письма, его текст и концовка впечатлили ее. Но все равно это был лишь единичный эпизод, когда Михаилу удалось пробиться через защитную броню Светы, да по существу он и не значил ничего для поворота отношений в лучшую сторону. Это был не упрек, а просто констатация факта – птичка выросла и выпорхнула и ни в чьей опеке, Слава Богу, больше не нуждалась. Мавр сделал свое дело. На сей раз мавром Михаил с полным правом мог считать себя, а что этот мавр должен делать после исполнения функций, Михаил знал и без Шекспира, сам по себе.
Когда Света стала достаточно состоятельной женщиной, она заявила, что хочет съездить в Париж с мамой и бабушкой. Марина всегда хотела побывать во Франции, тем более, что она хорошо знала язык. Михаил был доволен, что внучка хочет посодействовать осуществлению бабушкиной мечты, а о себе он такого никогда не думал. Зачем? Чужие города его утомляли и даже быстро начинали раздражать. Так случалось в Софии, Варшаве и Будапеште. Конечно, эти города вряд ли могли конкурировать с Парижем в глазах всех людей, кроме тамошних уроженцев, но Михаила все равно туда не тянуло – разве что в Лувр, музей Д»Орсе и на секс-ревю в «Лидо» или «Мулен-Руж», что само по себе было не так уж важно. Он совсем не был обижен тем, что Света выбрала в спутники бабушке не его, а свою мать. Уже по одной по этой причине ему надо было остаться в Москве с собаками – не оставлять же их на чужих людей. Марина вернулась из Франции очень довольной. Кроме Парижа, они посетили и Страсбург – тихую столицу европарламентаризма с грандиозным собором, оказавшимся в строительных лесах. Зато Париж не обманул ни ее, ни Светиных ожиданий. Одна Люда жаловалась знакомым, что кроме Эйфелевой башни в Париже смотреть не на что, а так – город грязный и скучный для нее. Ну что ж, как говорил, шутя, ее погибший муж Коля: «Кажному свое!» – и Люда не выпадала из-под действия этого принципа. Ни шедевры живописи из Лувра, ни импрессионисты в музее Д»Орсе, ни скульптуры Родена в музее этого гения на нее впечатления не произвели, хотя она исправно посещала все места вместе с увлеченными дочерью и свекровью. Но и этот факт не подействовал на Михаила раздражающе. Все равно ведь Эйфелева башня и вид с нее ей понравились куда больше, чем вид с башни собора Парижской Богоматери, который она могла обозревать в соседстве с безобразными рожами химер.
Но спустя еще пару лет и Михаил был удивлен, когда Света спросила, действует ли еще его заграничный паспорт, которым он так еще ни разу и не воспользовался. Он ответил, что паспорт уже просрочен. – «Тебе надо оформить новый. Я дам тебе деньги на это». Михаил, сидел за столом, а Светлана стояла рядом. Он вскинул на нее глаза и спокойно спросил в ответ: «Ты думаешь, я на что-нибудь претендую?» Он и вправду не собирался куда-либо ехать за ее счет и даже в мыслях не имел попрекать ее за все, чем она могла считать себя ему обязанной. На секунду Светлана смешалась, потом овладела вновь выражением своего лица и повторила настойчиво-просительным тоном: «Нет, дед, ты обязательно сделай себе новый паспорт», – и добавила: «Я тебя прошу», – а затем поцеловала. Он не спорил. Абсолютно не вдохновленный какой-либо мечтой, он обратился в ОВИР за паспортом и после возвращения из деревни получил его без всякой мысли о том, на кой он ему. Оказалось, что Света вызнала у бабушки, что когда-то дед был не прочь увидеть Канаду или Норвегию. Михаил не знал, сбудутся ли намерения Светы угостить его видами фиордов Норвегии или хребтов Британской Колумбии, но решил наперед ничем не мешать внучке осуществлять задуманное, полагая, что до этого дело дойдет не скоро и, как знать, не окажется ли к тому времени его уже бесплотный дух где-то совсем в других краях – и не в русских, и не в норвежских и не в каких других, кому-либо известных на этой Земле. В конце концов, если в груди у внучки и шевельнулось какое-то чувство привязанности к деду, будь то любовь или благодарность или покаяние, не было смысла препятствовать ее желанию воздать ему чем-то желанным в его мечтах. Ничего дурного в этом не было, даже если сам дед уже не нуждался в экскурсионных поездках – в первую очередь потому, что отдал душу походам по самостоятельно выбранным маршрутам, пройденным на своих судах или своими ногами, и оттого смотреть на красоты через окна автобусов или с огороженных барьерами из труб смотровых площадок его больше не тянуло с той памятной силой, которая властно отправляла его в те места подлунного мира, где он должен был сам достигать самой волнующей красоты.
Глава 17
Живя в деревне на берегу Моложского залива Рыбинского водохранилища неработающим пенсионером, Михаил продолжал придерживаться прежних принципов – знакомиться с местными красотами в пеших прогулках или передвигаясь с помощью гребли на байдарке или надувной лодке. Это были лучшие часы деревенского бытия. Рядом с ними можно было поставить разве что вечернюю пору внутри их просторского пятистенного дома, когда горницу заливал желтый свет предзакатного солнца, от которого янтарно светились освещенные сквозь окна участки бревенчатых стен, а в камине, который по Марининому заказу сложил печник из не очень далекой деревни – бывший штурман военно-морского флота, – горел яркий животворный огонь. Но для того, чтобы в полной мере ощутить прелесть уюта русской избы, надо было вволю находиться в свежую погоду на веслах или под парусом и уж после этого наслаждаться отдохновением в цивилизованной обстановке, которая никому, кроме русских, не покажется особенно цивилизованной, а им-то, русским, почитай, лучшего и не было надо никогда.
Марина редко составляла Михаилу компанию на борту их судна, чаще вместе с ним и собаками ходила в лес пешком. А так у нее всегда был огород и какие-то хозяйственные хлопоты, от которых ее было трудно оторвать, потому что огородом Марина, к немалому удивлению мужа, увлекалась всерьез. Отчего это ей нравилось заниматься землей, Михаил затруднялся понять. Близких крестьянских предков в ее роду как будто бы не было. Разве что бабушка по линии матери, которую дед-дворянин привез из Болгарии после ее освобождения от турок, была специалисткой по земледелию. Родня Владимира Владимировича Гурнова не могла допустить, чтобы дед по всей форме женился, по есть обвенчался, с красавицей болгаркой Николиной Матовой из-за ее крестьянского происхождения, но вынуждена была смириться с тем, что он жить без нее не мог – и действительного жил, так сказать, во грехе, и она родила ему девятерых детей, из которых выжило семеро, и уж их-то дед одного за другим удочерял и усыновлял. Бабушка Николина, которую, видимо, по желанию матери деда, в России переименовали в Елизавету (так было понятней и приличней), не только была хозяйкой, у которой на земле все росло лучше, чем у кого-либо вокруг, но и являлась носительницей особой силы, которую теперь признают за экстрасенсами. Это доказывалось многочисленными примерами целительства, а также тем, что к ней не прилипала зараза даже в тифозных бараках во время Гражданской войны. От Михаила Марина требовала для огорода немного – иногда кое-где вскопать целину или задернованную старую залежь, укрыть теплицу полиэтиленовой пленкой, помочь поливать грядки. Последнее стало совсем несложно, когда на участке пробурили скважину и поставили электронасос, особенно после того, как Михаил развел шланги ко всем возделываемым участкам и бане. Вот париться в бане Марина любила всегда и умела так все подготовить для хорошего пара и прогрева, что даже Михаил, не любивший высоких температур, все-таки искренне расположился душой к их черный бане. Вопреки его ожиданиям, дышалось в этой бане хорошо, а дыма после правильного «выстаивания» бани внутри ее совсем не оставалось.
Но еще больше, чем мыться в бане, они любили купаться по утрам «на речке». «Речкой» местные жители по старой памяти называли приток Мологи, который теперь напротив деревни был двухкилометровой ширины. Купаться они начинали сразу после приезда во второй половине апреля, иногда еще, пока не весь лед уходил, а заканчивали перед отъездом в конце сентября или в первой половине октября, если не слишком дождило или не буйствовал ветер. В таких случаях они обливались водой из скважины на участке.
Михаилу хорошо думалось и работалось в близости к природе. Прошел участок – и ты уже в лесу. Прошел задами на восток вдоль деревни – и вышел к яру, с которого далеко видна затопленная водой долина реки Мологи где на шесть километров, а где и на двенадцать. Мологу Михаил про себя называл морем и не уставал любоваться водой и поразительным небом над ней как с берега, так и с байдарки. А до воды от дома тоже было недалеко. Выйдешь за калитку, пересечешь дорогу – и там уже участок кондового соснового бора совершенно Шишкинского излюбленного типа, и по нему до спуска с яра к пляжу еще метров триста, а дальше ты уже сам себе вольный человек – греби куда хочешь или иди под парусом, если ветер не в лоб. В распахнувшемся над водами мире Михаил нет-нет, да и наблюдал такое, чего не видывал даже в далеких походах в тайге и по горам, хотя по тем путевым впечатлениям он уже успел накопить немалую коллекцию поразительных открытий для себя.
Единственной общей их чертой было то, что все они внезапно выводили за пределы привычных ощущений от того, что на каждом шагу встречается в жизни. Первым чудом, правда, показалось Михаилу увиденное в подмосковном лесу возле Малой Вязëмы. Он шел ранней весной по хмурому лесу, когда вдруг начался обильный снегопад. Снег быстро большими слипшимися снежинками стремительно спускался вниз и на уровне гладкого ровного черного зеркала большой лужи соударялся с точно такими же ливнями точно таких же снежинок, только летящими им навстречу снизу вверх. В ходе непрерывной и точной сшибки они бесшумно исчезали, а им на смену сверху и снизу с одинаковыми скоростями беспрерывно стремились к новым столкновениям в точках встречи потоки новых снежинок, где и совершалась беззвучная аннигиляция снежного вещества.
Еще раз Михаилу довелось наблюдать нечто подобное уже вместе с Мариной с борта байдарки в майские праздники на реке Уще на юге Псковской области. Такая же черная вода выставляла навстречу падающему снегу столь же интенсивные потоки вылетающих из ее толщи потоки белых частиц. И снова им было явлено в одно время два невероятных чуда – антигравитация и аннигиляция, не сопровождающаяся взрывным выделением энергии. Природа совершала эти процессы без шумов и эксцессов вопреки всем теориям физиков. Было отчего обалдеть!
Однако этим не ограничивались феномены, случающиеся по Воле Божьей при наблюдениях за водой из атмосферы. Иногда гидросфера мимикрировала под свою небесную сестру – атмосферу. Впервые Михаила сильно потрясло это неожиданное явление, когда он со своими спутниками Ваней и Ларисой Киселевичами летел из Иркутска в Улан-Удэ над акваторией Байкала, направляясь к одному из самых сложных походов по Баргузинской горной стране.
Уже после набора самолетом высоты эшелона Михаил мельком взглянул через иллюминатор вниз – и обмер: никакого низа не было ни в каком направлении – он проверил. Везде был только воздух – прозрачный, безоблачный, голубой – единственная безбрежность, не соприкасающаяся ни с одной из двух ожидаемых первородных стихий – воды и тверди. Не было земли по курсу самолета, где должен был находиться восточный берег Байкала и станция Танхой. Не было хребта Хамар-Дабан к югу и юго-востоку. И первой мыслью было, куда же мы попадем, если кроме забортного воздуха в мире не осталось ровным счетом ничего? Какая – то невидимая, но непрозрачная вуаль была наброшена на берега Славного Моря, в то время как внизу простиралась голубая вода, совершенно не отличимая от воздуха.
Зрелище было потрясающее. Но оказалось, что возможно еще и не такое. Это случилось уже в деревне «на речке» – притоке Мологи. Михаил вышел из своей гавани в предвечернее время на байдарке. Стоял, вообще говоря, редко случающийся в этих краях абсолютно полный штиль. Вода не колебалась, отражая леса по отдаленным берегам и огромные белые облака в небе. Где-то на полпути к другому берегу Михаил положил весло и о чем-то задумался, а когда вернулся к действительности, на какую-то микросекунду все его существо пронзил страх – он со своей байдаркой висел в воздухе. Выше него стояли гигантские белые облака и ниже они тоже стояли. А там, где их не было, в любом направлении голубел только воздух. Возникшее чувство оказалось посильнее того, которое охватило при полете над исчезнувшим Байкалом. Ведь там он находился внутри многоместного Ан-26. Моторы работали, фюзеляж подрагивал от обычных вибраций – стало быть, под крыльями образовывалась подъемная сила, позволяющая выиграть время, когда что-то вокруг прояснится и определится. Здесь же он не создавал никакой подъемной силы (да и как он мог создать ее одним своим двухлопастным веслом?). Да и Архимед не мог создать свою спасительную выталкивающую из воды силу на корпус лодки, потому что корпус никуда, кроме воздуха, не был погружен. А потому Михаил вместе с байдаркой только каким-то непонятным чудом оставался висеть в хрупком равновесии, не проваливаясь куда-то вниз, и от этого было боязно даже пошевелиться.
В следующий миг Михаил, конечно же, понял, что опасность ему не угрожает, что его охватил было страх перед совершенно новым восприятием того же самого окружающего мира, в котором он существовал постоянно. Наваждение зависания без какой-либо опоры прошло. А Михаил еще долго дивился тому, как важно, оказывается, иметь в голове уверенность, что начало твоих координат привязано к какой-нибудь тверди. Без этого психика начинает паниковать.
С большой водой около их деревни у Михаила были связаны еще два откровения. Как-то вечером в конце лета он отправился задами к берегу Мологи, спустился по порядочной крутизне с яра к заплесточку, огляделся. Он знал, как маловероятно застать здесь уток или увидеть их во время перелета с места кормежки, и тем не менее, решил подождать. С ружьем в руках в высоких сапогах Михаил зашел с берега в воду и стал ждать. Кругом было тихо. Глубокие сумерки опустились на черную, кое-где в светлых зеркальных полосах воду. Ожидание всегда тяготило его, потому что тормозило или обессмысливало любое занятие. Так он начал чувствовать себя и на этот раз, как вдруг что-то явно новое в обстановке дошло до его сознания. Нет, тишина не была нарушена ни в воздухе, ни на воде. Почти полную темень тоже ничто не нарушало. Он взглянул перед собой вниз, потом под ноги – и весь напрягся. Он твердо помнил, что шел от берега по совершенно гладкой поверхности воды, расположенной строго горизонтально, раздвигая ее голенищами сапог. Но теперь – то он каким-то образом оказался на вершине водяного бугра, плавно выпирающего из окружающей воды. Вершина бугра, на которой он стоял, казалось, была высотой где-то до полуметра, а его круговое основание было диаметром около пятнадцати метров. Михаил подумал, что это какая-то волна, но время шло, а она не опадала. Да, он явно находился на оси какой-то дефектной гравитации, из-за которой вода в этом месте приподнялась.
Ему сразу вспомнился рассказ академика Бреховских, выступавшего по телевидению после возвращения из экспедиции в район Бермудского Треугольника, которую он возглавлял. Говоря об особенностях этой с худой репутацией зоны, академик признал, что единственным аномальным явлением, которое они точно установили, было то, что поверхность океана была там несколько вогнута по отношению к сфере, что свидетельствовало о большей силе гравитации, чем в соседних районах Атлантики. Объяснить суть явления академик не брался – видимо, был изумлен не меньше, чем Михаил много лет спустя на другом краю света, хотя один наблюдал увеличенную гравитацию, а другой – ослабленную, но и у того, и у другого вода ни внутрь воронки, ни с вершины бугра НЕ СТЕКАЛА вопреки всем представлениям гидравлики, основанным на понятии геометрического напора. Михаил не поленился в то же время на следующий вечер придти на то же место, где вчера стоял посреди возвышенной воды, но на сей раз ничего похожего на вчерашнее не случилось. Ничто не нарушило горизонтального состояния поверхности вод.
А еще Михаилу выпало вместе со Светой на большой четырехместной байдарке перевозить через «речку» к очень раннему междугородному автобусу двоих ее гостей: муж – френда Андрея и его брата. Ночь была спокойная, ясная и безлунная. Разместив всех в байдарке, Михаил сел на свое место в корме и выключил фонарь. Он распорядился, чтобы никто, кроме него, не греб – из водохранилища уже основательно спустили воду через Рыбинскую плотину – дабы не наскочить в темноте на приличной скорости на какой-либо пень или корягу. Внучке, сидящей в носу, он велел как впередсмотрящему вглядываться вперед по курсу и в случае подозрений светить вперед фонарем. Он размеренно греб веслом, едва-едва угадывая хорошо известные, но почти совершенно незаметные ориентиры. И вдруг словно пелена у всех на борту упала с глаз. Все богатство звездной ночи охватило их сразу со всех сторон. В небе и под ними, справа и слева, спереди и сзади байдарки не было ничего, кроме черноты и светящихся звезд. Это было так дивно и странно, что Михаил мигом ощутил то же самое, что должны ощущать, улетев от родной Земли в дальний космос решившиеся на безумный рейс космонавты, которых подвигла к этому храбрость неведения. Небось, они до этого думали только о том, как бы им хватило времени жизни, воздуха, воды и еды, да герметичной прочности корабля, тогда как больше следовало бы заботиться о том, как они будут обходиться без спасительного ощущения начала координат в голове, какое не покидало их ни на Земле, ни на околоземной орбите. Только когда истаяла бы Земля даже как чуть заметная светлая точка, они осознали бы значение этой утраты. Какую волю надо иметь, чтобы совладать со своими нервами, привыкшими за миллионы лет видеть горизонт, знать, где верх, где низ и попирать именно ногами нечто находящееся на поверхности родной планеты, будь то естественная или искусственная твердь? Даже тем китайцам, которые рождаются, живут и умирают на джонках, свойственно иметь и использовать ту же систему естественной ориентации, которую выработали люди, никогда не покидавшие твердой материковый коры.
А следом Михаил подумал, что в качестве тренировочного теста не лишне было бы включить в программу подготовки экипажей для полетов в дальний космос и такую вот вещь – плавание на безмоторной лодке во тьме безлунной ясной тихой звездной ночи.
Все эти случаи вторжения воздушной стихии и звездного неба в стихию воды ошеломляли Михаила каждый в свое время с достаточной силой. Но оказалось, что не меньшее потрясение может произвести вид сквозь воду туда, где по всем постоянным жизненным представлениям мог присутствовать только воздух.