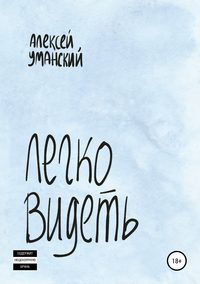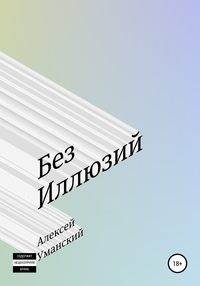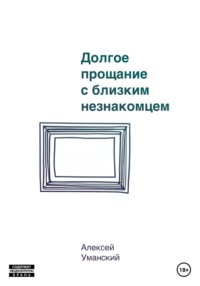В пограничном слое
Число изнасилований и половых связей по принуждению силой или обстоятельствами с обеих сторон также нельзя сбалансировать никогда. Бесспорно, у нас пострадавших женщин было больше, но и у немцев их число было ОЧЕНЬ ВЕЛИКО.
Жена Академика Сахарова Елена Боннер приводила в одном интервью число родившихся у немок от доблестных советских воинов, как она выразилась, «Бастрюков» – пятьсот тысяч детей, а ведь половых принуждений наверняка было больше по крайней мере – на порядок, и это не считая действительно любовных соитий во временно установившихся отношениях между конкретными советскими мужчинами и немецкими женщинами.
Наверняка среди миллионов немок, уступивших безвыходности и силе, десятки тысяч женщин и девушек были изнасилованы особо мерзко и жестоко, чего нельзя оправдать никакими соображениями о справедливом возмездии (хотя и в этом случае немцы наверняка «количественно» превзошли нас), но была и другая сторона у этой сексуальной медали. Многие тысячи, а скорее всего – десятки тысяч из миллионов советских военнослужащих в Германии обращались к своему командованию с просьбой разрешить им жениться на немках, что свидетельствовало не столько об их желании «прикрыть грех», сколько о том, что и в таких столкновениях и обстоятельствах нельзя предотвратить возникновение настоящей любви. Однако ответ на такие просьбы всегда был стандартный – срочно отправить просителя из Германии назад в Советский Союз, а затем на войну с Японией. Слов нет, была у подобного безжалостного вмешательства в чувства людей и вполне справедливая основа – забота о своих советских женщинах, во множестве оставшихся без своих постоянных сексуальных партнеров, чтобы они не несли дополнительного ущерба, и за их счет не устраивали счастья для какой-то категории немецких женщин. Личные пристрастия и предпочтения конкретных половых партнеров никогда не являлись значимыми аргументами в глазах государства, особенно в глазах товарища Сталина. Так или иначе, но к трагедиям и драмам военного времени прибавились еще и свежепослевоенные. В итоге встречные претензии воюющих сторон по старым психологическим правилам военно-возместительной игры могли продолжаться вечно. Западная Германия стала первой в европейской, а то и мировой истории страной, которая отказалась от реваншистских претензий к победителям во Второй Мировой войне. С одними она вступила в постоянные, причем очень прочные альянсы – в НАТО и Европейский Союз, с преемницей Советского Союза, своего главного политического противника – Россией – она не только на уровне правительств, но и множества простых людей повела себя не как враг, мечтающий о мщении, готовый воспользоваться любым осложнением положения в стане бывшего победителя (а перед лицом постсоветской России уже в полный рост вставал призрак массового голода), а как сочувствующий партнер и сосед, готовый по своей инициативе оказать посильную помощь, чтобы не довести ядерную державу до отчаяния, от которого рукой подать до мысли – пусть я погибну, но тогда и весь мир пусть отправится в тартарары. Я свидетельствую – ни к кому мы с Мариной не обращались за помощью, но она каким-то образом сама нашла нас. Посылка, из которой, правда, судя по описи вложений вытащили по дороге кожаную куртку, содержала в основном продукты питания. Пусть их было не так уж много, но из письма, вложенного в посылку, было ясно, что это – помощь от чистого сердца. Внучка Света, учившаяся тогда в немецкой школе, перевела его нам. Письмо написала фрау Кристина-Мария Яблоновски из Мюнхена (кстати сказать, в соответствии со штампом советской пропаганды – «рассадника немецкого реваншизма»).
Из того, что в посылку была вложена даже шариковая авторучка, конверт с адресом и чистый лист бумаги, мы поняли, что фрау Кристина-Мария очень хочет удостовериться, что ее дар кому-то действительно помог. Я написал письмо с выражением признательности и благодарности за ее доброе сердце. Мне казалось, что упоминание о сердце будет особенно приятно немецкой даме, воспитанной в национальной традиции. Несмотря на ее явно славянскую фамилию – скорее всего польскую – мне подумалось, что она все-таки немка, просто муж у нее поляк. Фрау Кристина-Мария была явно очень обрадована. Как видно, она почти не рассчитывала на благодарность, хотя и хотела ее получить, раз уж позаботилась вложить в посылку бумагу, ручку и конверт. В своем письме она написала немного о своей семье. У них с мужем было две дочери примерно Светиного возраста. Имя одной из них я запомнил, поскольку оно было типичным не для Германии, а для Польши – Ядзя, то есть Ядвига, что подтверждало мою гипотезу о польском происхождении мужа Кристины-Марии. Ядзя занималась верховой ездой. А еще Кристина-Мария сообщала, что мы могли бы не стараться насчет перевода своего письма на немецкий язык, хотя это тоже было очень приятно – в доказательство она приложила двадцать дойчмарок в подарок Свете – у них в Штокдорфе сосед, херр Войнович – он бы все перевел. Вот это был номер! Оказывается, автор почти бессмертного Чонкина Владимир Николаевич Войнович, потомок адмирала графа Войновича, в честь которого была названа парадная-графская- пристань дважды героического Севастополя, жил в вынужденной эмиграции рядом с нашей дамой доброй души и доброго сердца! В этом, честное слово, мне привиделось даже некое благословение Небес. В голову немедленно полезли мысли о том, насколько лучше чувствуешь себя, когда на смену глубоко укоренившемуся с детства, пожалуй, даже перешедшему в подсознание враждебному отношению к народу, от которого столько всего пришлось претерпеть нашей стране и который сам за это тоже очень претерпел, пришло очищающее чувство человеческой общности двух народов, способности действенно откликнуться на чужую беду вопреки прошлому стремлению нанести противнику наиболее чувствительный ущерб. Мне незачем было фантазировать насчет гуманизма и всепрощения, какой природы оно бы ни было – христианской или какой-то другой. Когда в душе шевельнется человечность, а в результате лопнет и слезет с нее заскорузлая оболочка ненависти, недоверия и вражды, которая так прочно цементирует весь комплекс представлений о давнем противнике и РАЗРЕШАЕТ, даже ОБЯЗЫВАЕТ проявлять к нему неискорененное, но возможно все-таки искоренимое прирожденное зверство, способное БЕЗ ЭТОГО почти безгранично выступать доминантой социального и личного отношения к народу с другой, вражеской стороны, и это дает надежду на исправление человечества. Конечно, освобождение от вражды и ненависти приходит лишь в тех случаях, когда тебе протягивают руку в поддержку – в первую очередь именно руку, а не то, что она тебе передает. Мне врезался в память один телевизионный репортаж, когда пожилая ленинградка (еще не петербурженка, хотя и несомненно из старой петербургской семьи) сказала людям, распределявшим в городе гуманитарную помощь, причем твердо сказала, что от немцев она ничего не возьмет. Не мне судить о правоте или неправоте этой дамы, тем более, что не приходилось сомневаться – без достаточных оснований блокада, голод, истребительный голод под бомбежками и обстрелами, когда всем еще живущим привычнее узнавать, что кто-то из знакомых умер или убит, чем кто-то еще живет и как-то тянет свою нечеловеческую лямку блокадной жизни, не будут прощены. Да, у нее чувство неприятия немецкой помощи после ТАКОГО (и, скорей всего, к немцам или Германии вообще) закономерно укоренилось в душе. Простить пережитое как она считала, у нее не было ни права, ни желания, ни сил. Но что же все-таки делать, чтобы в человеческой будущности подобного больше не случалось, чтобы диалог между представителями двух великих народов не сводился к обмену приказными репликами типа «Стоять! Руки вверх!» – «Хенде Хох!» или «Фашистские гады» – «Руссише швайн!», а к обменам совсем другого рода: Пушкина и Толстого на Гете и Шиллера и далее в том же роде, раз уж с российской стороны было кого сопоставить с представителями немецкой стороны. К счастью, такие сопоставления всегда имели место по любой отрасли универсума знаний с Екатерининских времен, что вообще не подлежит никакому сомнению. – Немцы, я имею в виду немцев-идеалистов как первейших среди хранителей знаний нынешней цивилизации (хотя и не только нее), как были, так и остались преданными исполнителями собственного национального призвания, которому лучшие умы этого народа посвятили свой труд и интеллект, а также собирательные способности. Да, им было свойственно уважительное отношение к любым ценным для человечества знаниям, от кого бы они ни исходили – от европейских ли гениев науки, от эзотериков ли Индии, Тибета и Древнего Египта или от примитивных народов, расселенных по всему свету на всех обитаемых континентах Земли.
Нам, россиянам, именно такие немцы уже не первый век доказывали и доказывают, что могут, оставаясь этнически и ментально людьми своего племени, быть истинными и истовыми сынами, дочерьми или поклонниками русской земли, будь то их действительная или приемная родина, на благо которой они отдавали нисколько не меньше сил, чем коренные, прирожденные русские.
Фаддей Беллинсгаузен, Иван Крузенштерн, Эдуард Толь, вице-губернатор Нольде, Фердинанд Врангель по праву оставили свои имена на карте нашей родины и за ее пределами и, скорей всего, нет счета российским немцам, доблестно отдавшим жизнь за Россию на полях сражений. Но здесь хотя бы не было ничего удивительного – все они любили страну, в которой родились и которая их воспитала, воздействуя своими особыми энергетическими полями и вибрациями какой-то необыкновенной частоты.
Намного более загадочным на фоне российских немцев выглядит феномен обращения германских уроженцев, полюбивших Россию (правильней даже, пожалуй, было бы сказать – возлюбивших Россию), поддавшихся, несмотря на весь свой упорядоченный менталитет, несказанному и загадочному во все века российскому очарованию, о котором всегда было известно, что оно есть, но неизвестно, в чем оно состоит – ни нам самим, ни всему остальному свету.
Корнелию Герстенмайер я видел всего два раза по телевизору, и был поражен тем, насколько эта отнюдь не юная красивая во всех отношениях и благородная женщина посвятила себя России.
Ее отец Герстенмайер, единственный оставшийся в живых из высокопоставленных участников покушения на Гитлера, которое в 1944 г было осуществлено, правда, неудачно, под руководством полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Герстенмайер находился в Париже, когда пришло известие о провале заговора, и сумел скрыться, что позволило ему в дальнейшем стать первым президентом ФРГ. Корнелия Герстенмайер прибыла в Россию во время перестройки в качестве организатора масштабной гуманитарной продовольственной помощи постсоветской России, оказавшейся предельно близко ко всеобщему голоду. Она даже заговорила по-русски (не знаю, учила ли она наш язык до прибытия в страну). Искренность ее старания помочь россиянам в беде нельзя было подвергнуть никакому сомнению. Она не играла в благодетельницу – она жила тем, что делала, и сожалела только об одном – что у нее нет денег на покупку квартиры в России. Ей хотелось чувствовать себя не приезжей и не в гостях.
Знакомство со странностью немецкого отношения к России и русским у меня на этом не закончилось. Поскольку Света училась в школе с усиленным изучением немецкого языка, эта школа была подключена к международной кампании обмена учащимися. Сначала в их школе побывали немецкие школьники, потом группа учеников, среди них и Света, полетела в Мюнхен. Света попала в дом Биргит, которая уже побывала в Москве. Биргит жила с отцом, квалифицированным рабочим, обладателем особняка и кабриолета «Мерседес», которого потом в Москве наша внучка для краткости именовала «папиком». Биргит была старше Светы и переживала период депрессии по причине разлуки с парнем, который уехал на жительство в Америку. Судя по всему, отчасти по этой причине папик заботился о Светлане больше, чем Биргит.
Он сразу поинтересовался, с каким списком Света приехала в Германию. – «С каким списком?» – удивилась Света, свободно общавшаяся с ним на немецком. – «Как с каким? – в свою очередь удивился папик. – Разве мама не дала тебе список, что тебе надо отсюда привезти?» – «Нет, – ответила Света, – не дала». – «Ну, а что бы ты сама хотела привезти домой?» – не отступался папик. – «Да в общем-то ничего. Только какие-нибудь небольшие сувениры». – «А золотые цепочки или украшения тебе бы не хотелось?» – «Нет. Я вообще золота не люблю». – «А что же ты любишь?» – «Мне больше нравится серебро». – «Но это ведь не драгоценный металл», – заметил папик. «Ну и что?» – возразила Света. – «Неужели мама так и не велела тебе что-нибудь привезти из золота?» – «Нет, я же Вам уже сказала».
Видимо в гостях у папика уже побывала девочка из России «со списком», а то и не одна. Но папик не удовлетворился нестандартным, как он считал, поведением нашей внучки и не успокоился. Он купил ей по своей инициативе, исходя, очевидно, из прежнесписочных представлений, кожаную куртку-косуху, от которой обмер бы любой нормальный российский байкер, электронные наручные часы и еще кое-что, о чем я уже не помню. Когда Света побывала с Мюнхенском бассейне и забыла снова надеть положенные в шкафчик перед купанием дареные часы, они так и пропали. Узнав об этом, папик огорчился не столько тем, что пропали часы, сколько тем, что Света не обратила внимания на то, что в них можно было купаться и нырять до глубины в двадцать метров – и купил такие же снова. Нет, безусловно Светино бескорыстие было ему очень симпатично, да и сама она тоже. Общение с немецкими ребятами показало, что они отнюдь не скрывают своих сексуальных связей от старших. Свете это было внове, поскольку она еще не почувствовала любви к кому бы то ни было, но ей не очень понравилось, что одноклассник Биргит, которого все вместо имени называли только по прозвищу – Пуми – вел машину по автобану на высокой скорости, лишь изредка отрываясь от долгих поцелуев со своей девчонкой, сидевшей рядом с ним, но все обошлось. Оказалось, что Пуми собирался стать пилотом. Еще немецкие школьники водили наших в «биргартен», то есть в «пивной сад», где культурненько, за столами, можно было пить пиво. Света была посвящена в детали того, в какие пивные заведения прилично приходить со своей закуской, а в какие-нет, где закуску следовало заказывать.
В Мюнхенском художественном музее Свете особенно понравились полотна Ренуара. Там же, в музее, произошел забавный случай. Какие-то незнакомые немецкие девочки заинтересовались тем, как заплетены в косички Светины волосы. Услышав ответ на приличном немецком, они спросили, из какого она города.
Она ответила, что не из Германии. – «А откуда? Из Франции?» – «Нет, из России». – В ответ раздалось: «Ах-х!» и поступила просьба рассказать, как она заплетает свои волосы. – «Мне легче показать, чем рассказать», – ответила Света, и девочки тут же попросили ее показать, не выходя из зала. – «Прямо на виду у Ренуара?» – спросил я. – «Прямо на виду у Ренуара», – подтвердила Света. Папик Биргит расспрашивал Свету о семье, о том, где она проводит лето. Узнав, что у бабушки и дедушки есть деревенский дом, он попросил показать по карте, где он находится. Света показала примерное местонахождение этого дома, и тогда он поинтересовался, сколько времени занимает добраться до него. Света ответила, что поезд до ближайшей станции идет от Москвы одиннадцать часов. Вновь обратившись к карте, папик заявил, что этого не может быть: он точно знает, что от Москвы до Петербурга поезд идет восемь часов, а место, показанное Светланой, находится на расстоянии вдвое меньшем от Москвы. Света говорила правду. Но объяснить немцу с нормально работающей головой, что поезд больше времени проводит на промежуточных стоянках, чем в движении, оказалось невозможно. Такой работы транспорта он по понятным причинам представить себе не мог. Затем он спросил, чем она занимается в деревне. Света сказала, что гуляет, купается, ходит в лес собирать ягоды и грибы. – «А какие там ягоды?» – «Малина, черника, брусника». – «И много?» – «В некоторых местах очень много. Можно долго есть, не сходя с одного места». – «Как? Разве их можно прямо в лесу есть?» – ужаснулся папик. – «А где же еще? – изумилась Света. – Вкуснее всего ягоду есть там, где она растет». – «Но это же лес!» – воскликнул папик. – Вы едите ягоду, поднятую прямо с земли? Как это можно?» – Объяснять дальше не имело смысла. По-видимому, в глазах папика это подтверждало еще не изжитую цивилизацией природную дикость славян. Для него было допустимым есть чернику только после ее мытья и домашней или заводской обработки. Да, несомненно, разница культур между Германией и Россией действительно существовала. И не только в виде деревень, выглядящих в Германии как игрушечные, а в России – серо, невзрачно и, как правило, без затей. Как бы ни была симпатична разноплановая устроенность жизни в Германии, где бы она ни протекала – в городе или в деревне – Свету там через несколько лет стала ощутимо тяготить неотвязное сознание скуки. Может, и такие люди, как Корнелия Герстенмайер, попав в Россию, ощущали точно такую же разницу, и их влекло от своей скуки к нашей неустроенности, но все же к занимательному естеству? Природа русской ностальгии по своей исконной земле, понятная почти каждому русскому, оказывается в своей основе подобной той, которую испытывают по России немцы, каким-то образом втянувшиеся в нее! Наверное, это качество присуще не всем немцам, познакомившимся с Россией, но ведь свойственно же! Когда на следующий год после посещения Мюнхена Светой в Москву приехали Мюнхенские школьники, одного из них, Мартина, пригласила погостить к себе в квартиру Светланина мать Люда. Мартин был на год старше Светы. Приехав к ним, точнее, говоря языком позапрошлого века, определившись к ним на постой в Москве, Мартин сразу же попросил разрешения позвонить родителям, чтобы сообщить им номер московского телефона Светы. Те сразу же перезвонили, и Мартин, обмирая от восторга, сообщил матери и отцу, что благополучно поселился, что квартира такая маленькая в сравнении с их домом, но такая уютная и в ней так хорошо, а его самого приняли очень радушно. Мартин был крупным парнем, и в маленькой Светиной комнате, которую ему отвели (сама Света перебралась на время визита к матери) он от всего нового приходил в восторг, несколько невязавшийся с его габаритами и возрастом: и от пианино, и от громадного игрушечного мишки, который сидел поверх него, и от миниатюрных размеров жилища, в котором он сразу так легко и свободно почувствовал себя. Конечно, главной причиной его восторгов была сама Света, которую он прежде не знал. Серьезная, симпатичная и в то же время открытая девочка, с которой он мог просто объясняться на родном языке и которая несмотря на свой меньший возраст, знала не меньше, чем он. В течение недельного пребывания в Москве Мартину в Светланином доме нравилось быть все больше и больше.
Он уезжал из Москвы, явно сожалея, что время пролетело так быстро. Об этом лучше всего свидетельствовало приглашение от родителей Мартина Свете вместе с матерью посетить следующим летом Мюнхен уже вне всякого школьного обмена, чтобы они прожили неделю в их доме, причем было обещано оплатить им перелет в Мюнхен и обратно, то есть съездить в Германию совсем задарма. И действительно, на следующий год, все было сделано, как обещано – Люде и Свете прислали в Москву оплаченные билеты на самолет «Люфтганзы», а затем приняли их в трехэтажном мюнхенском доме как дорогих гостей. По всему выходило, что восторженный Мартин и впрямь глубоко въехал в Светлану. Наверное, все уши маме и папе про нее прожужжал, если они пошли на немалые расходы, приглашая к себе и мать и дочь за собственный счет.
Ведь судя по всему, они не были особенными богачами – разве что с советской точки зрения – трехэтажный собственный дом, папа – юрист, совладелец юридической фирмы, мама – врач-гомеопат, ведущий частную практику. Короче – скорее представители верхнего слоя среднего класса, чем кто-то еще, а такие люди просто так без особого смысла швырять деньги на ветер позволить себе не могут.
У Светланы впечатлений от ее второй поездки в Мюнхен было еще больше, чем после первой. Наша внучка явно обаяла фрау Диту Лангвизер, которая лично удостоверилась в том, что ее любимый сын Мартин не зря столько всего хорошего наговорил о ней. Глава семейства, проявляя несколько большую внешнюю сдержанность, тоже был доволен и нашел, что Мартин не зря столь сильно впечатлился от найденной в загадочной России девочки, которая только-только начала превращаться во взрослую девушку. По вечерам фрау Дита любила рассказывать Свете о той поре своей молодости, когда в Германии все было так трудно и скудно, особенно когда она была студенткой – медичкой, и ей в чужом городе приходилось платить за комнату уборкой всего дома ее хозяйки. Она объясняла Свете, в чем состоят особенности гомеопатии, и какие средства в ней используются для лечения. Будучи уроженкой какой-то из более северных, чем Бавария, немецких земель, она несколько подчеркнуто высказалась насчет того, что это у нее муж и оба сына (кроме Мартина был еще и его старший брат Ян, уже ставший студентом) баварцы, а она-то – нет, из чего можно было сделать вывод, что историческая земельная раздробленность Германии все еще оставалась фактором реального сознания уроженцев разных мест не такой уж большой по величине, особенно в сравнении с Россией, страны.
Оказывается, чего ни коснись, даже в живущей вполне благополучно и вроде действительно хорошо устроенной и цивилизованной стране, обязательно возникают, либо специально изыскиваются какие-то мелкие факторы, позволяющие одним людям думать о себе лучше, чем о других, основываясь на соображениях одного только землячества. Брат Мартина Ян учился на юриста, но только не дома, в Мюнхене, а в Гамбурге. Старшие Лангвизеры объяснили по какой причине вышло так. Оказалось, что обучение во всех высших учебных заведениях Германии для всех выпускников средних школ бесплатное и без вступительных экзаменов, и минус у этой замечательной системы был один: после подачи абитуриентом заявления о приеме на определенную специальность какой-то государственный орган решал, в каком городе страны и в каком ВУЗ¢е будет обучаться данный студент.
Я догадывался, что Люда хотела бы устроить дочь в хороший немецкий университет, если это будет не слишком уж дорого. Однако выяснилось, что при бесплатности собственно обучения студентам, во всяком случае – иностранным надо было самим оплачивать себе питание и жилье, что вылетало в немаленькие деньги. Но главное, Света, как выяснилось, совсем не горела желанием учиться за границей, что-то все-таки мешало ей расположиться в пользу Германии, ходя до сих пор она для себя ничего кроме блага от Германии не видела.
В доме Лангвизеров царила безупречная чистота, хотя Люда ни разу не видела хозяйку дома за какой-либо уборкой. Лишь однажды она случайно застала за этим делом приходящую работницу, которая сказала, что она – кроатка. – «Хорватка, – объяснил я, когда услышал об этом. – Из Хорватии много народу сбежало в Германию и другие страны Европы, пока шла война с сербами». А еще сама фрау Дита настоятельно просила гостей ничего своего самостоятельно не стирать и поьзоваться только стиральной машиной. Это имело значение для оплаты счетов за воду.
Лангвизеры свозили своих гостей на экскурсию в Баварские Альпы на своем BMW. Кое-где на склонах и стенах были видны альпинисты и скалолазы, по поводу которых доктор Лангвизер заметил, что они – сумасшедшие. Светлана по этому поводу отозвалась, что у нее дед (то есть я) занимался альпинизмом. Был ли германской стороной сделан из этого вывод, что я – тоже сумасшедший, осталось неизвестно. Про бабушку Марину Света умолчала, хотя и она отдала свою дань этому виду спорта.
В ходе очного знакомства с нашей внучкой Дита все больше очаровывалась ею, то ли вспоминая себя в ее возрасте, то ли сознавая, что именно такой – умной, красивой, воспитанной и приятной – хотела бы видеть жену своего любимого младшего сына. Света ничего не ждала от них, ничего для себя не просила, и от этого Дита и ее муж старались дать ей больше, чем сами от себя прежде могли ожидать.
Год спустя от Лангвизеров пришло новое приглашение приехать к ним в Мюнхен, и на сей раз Света полетела одна. Но если в прошлый раз она нанесла визит папику Биргит, преподнеся ему какой-то русский сувенир, чем он был удивлен, но остался очень доволен, то во время нового посещения Мюнхена она уже к нему не заходила. Я не спрашивал, хотела ли Светлана повидаться с Кристиной-Марией Яблоновски и ее дочерьми, а сама она не говорила, но очевидно было одно – что она туда не стремилась. То ли потому, что не чувствовала себя обязанной еще раз благодарить за сделанное для ее дедушки и бабушки, то ли потому, что от самого принятия помощи со стороны веяло каким-то сознанием своей если не второсортности, то все же зависимости. Если она действительно испытывала нечто подобное, то я бы сказал, что напрасно.
Мне казалось, что ей будет любопытно познакомиться с немецкими сверстниками, тем более катающимися на лошадях, поскольку верховая езда Светлане самой уже была немного знакома.