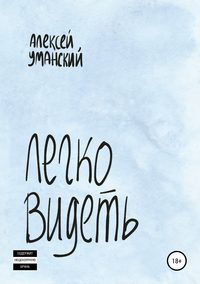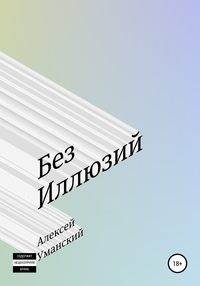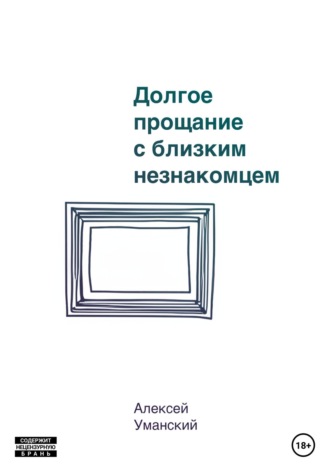
Долгое прощание с близким незнакомцем
Я шел по лесу, следил за азимутом и только удивлялся своим мыслям. С Андреем говорить совсем не тянуло, но я понимал, что кое-чем из этих соображений с ним все равно придется поделиться. Я даже решил предложить ему взять с собой в экспедицию на Северо-Восток кого-нибудь еще, чтобы посмотреть, проявятся ли на тамошней плеши такие же воздействии на волю и интеллект, которые произошли здесь с нами.
X
Через пять часов мы вернулись к лагерю, так и не сделав ни единого выстрела. А обе пары геологов-геохимиков добыли по глухарю. Счастливые, они снимали друг друга с огромными птицами в руках, и мне было понятно их настроение, но немного жаль глухарей. После леса в движениях каждого сквозила усталость, подтверждая справедливость моего убеждения в том, что тайга возьмет свое с человека. И еще все знали, что единственный день отдыха подходит к концу. Что нам оставалось перед возвращением в Важелку? Только провести в палатках еще одну ночь, позавтракать и собраться.
В палатке Андрей спросил меня:
– Что это ты такой тихий и сумрачный?
– От недовольства собой.
– Какого недовольства?
Я рассказал, о чем думал во время охотничьей прогулки.
– Знаешь, – наконец высказался Андрей, – а ты, наверное, прав. Из нас же веревки вьют, соки выжимают, да притом заставляют ничего не выдумывать, ничем не интересоваться. Вот мы коснулись запретного – и поехало. На нашу мысль узду уже не наденешь. А если большинство будет вести себя так?
– Ну, большинство вести себя так никогда не будет, – возразил я. – Ситуация в этом смысле находится под неусыпным контролем ЦК КПСС и товарищей из КГБ.
– Теоретически и они не всесильны, – возразил Андрей.
– Теоретически да, – согласился я, – а вот практически лишь за редчайшими исключениями всесильны. Благодаря тому, что практикуют всеобщий опережающий террор, карая за мелочи как за серьезнейшие преступления, причем не только самих оступившихся, но и их родню. Не забывай и о такой «мелочи», что государство у нас единственный, то есть монопольный работодатель. Вышвырнуть с настоящим волчьим билетом они в любой момент могут любого. В этом смысле даже наш разговор в палатке у черта на рогах, в тайге и то не вполне безопасен, потому что мы не одни.
– Ты сомневаешься в ком-то из ребят? – вскинул глаза Андрей.
– Нет, но я их плохо знаю. Разве мало было в жизни примеров, когда одни закадычные друзья предавали других? Да если вдуматься как следует, то кто вообще может предавать, кроме друзей? С врагами особо не откровенничают, с посторонними людьми тоже.
– Да, ты прав, – сказал Андрей. – Это значит, что потенциально опасными для каждого человека являются остальные люди. А это разве не абсурд?
– Безусловно, абсурд, во-первых, потому, что каждый человек не знаком со всем остальным человечеством; и, во-вторых, потому, что кое-кто оказывается неспособен предать доверившегося, особенно того, кого любит, даже под пытками. Таких очень мало, но все же точно известно, что такие люди встречаются.
– Ну, утешил, – ответил на это Андрей. – Согласился, называется. С точностью до наоборот. Без малого.
– Вот именно – без малого. А потому для таких откровений надо выбирать другую обстановку. Беседовать, скажем, под шумовой защитой водопада или дождя или где-то на хорошо просматриваемой местности, на которой шпикам негде спрятаться и нельзя незаметно подойти.
– Ладно, – засмеялся Андрей. – Ты лучше вот что скажи: как жить, сознавая все это?
– Ничего себе вопрос, – отозвался я. – По-моему, надо либо выбросить это из головы, либо эмигрировать, если не хочешь оказаться в застенках и лагерях.
– А ты можешь выбросить? – прямо спросил Андрей.
– Выбросить не могу. Но я тренированный. Могу приказать себе не думать.
– А как ты смотришь на эмиграцию?
– Вообще или для себя?
– И то и другое.
– Вообще – лояльно. Если человек не может жить, дышать или творить здесь у нас – лучше пусть уезжает. Сам я эмигрировать не хочу, разве что под страхом уничтожения, физического и гражданского. А наперед знаю, что в других странах мне будет плохо. В этом смысле Родина для меня не пустой звук, тем более что я так много на нее насмотрелся. Виды родной страны притягивают меня сильнее, чем отталкивают правители. Да и кем бы я мог там начать? Языка не знаю. К летной работе доступа бы не получил. К бизнесу таланта не имею.
– Ну, ты со своим знанием французского мог бы жить во Франции.
– А кто меня там ждет? Это в Израиле и США еврейским эмигрантам хоть как-то помогают, дают возможность адаптироваться. А во Франции что? Разве только через иностранный легион. Это мало радости, и тоже поздно. Туда идут молодые, жадные да глупые.
Я вдруг спохватился:
– Да что это я тебе все объясняю? Ты-то сам ничего в уме не прикидывал насчет себя? Просто ради оценки возможностей?
– Прикидывал, конечно. Тоже ничего утешительного не нашел.
– Ну, у тебя хоть на Западе известность есть. Ты там признанный спец. Можешь на что-то рассчитывать. Английский язык знаешь.
– Ты думаешь, Коля, им своих уфологов не хватает? Ошибаешься. Когда Абаза живет и работает в СССР, он полезен и нужен, поскольку является источником сведений об НЛО с закрытой для них территории. Тогда ему можно оказывать почет и уважение и даже в чем-то помогать. А если Абаза переедет в Америку, то окажется одним из многих. Те из них, которые занимают официальные посты и хорошо оплачиваемые рабочие места, будут совсем не в восторге от появления конкурента и, будь уверен, – постараются закрыть дорогу в свой солидарный и замкнутый круг. Я это точно знаю! – предупреждая мои возражения, добавил Андрей.
– И все же у тебя там были бы шансы, – сказал я вслух.
– Были бы, – подтвердил Андрей, – но не такие, как здесь. У нас я уфолог, так сказать, первого плана, а у них, дай бог, второго.
– Но тебе же не план важен, а возможность работать.
– Вот именно. А она-то как раз и будет у тех, кто на виду. Чего мне здесь недостает? Денег на проведение исследования и возможности свободно публиковаться. Но, будь уверен, больших денег мне и там не дадут. В чем тогда выгода, хотел бы я знать?
– В том, что там тебя за занятия уфологией не уволят и не посадят. А здесь это все-таки может быть.
– Если не лезть на рожон, то и у нас вероятность плохого исхода невелика.
– С чем нас с тобой и поздравляю, – заключил я. – Таким образом, тему эмиграции мы исчерпали и закрыли.
– Да, но и иной приличной перспективы мы с тобой не нашли, – со вздохом сказал Андрей.
Помолчав, он вдруг добавил:
– Знаешь, если говорить о нас, так называемых гражданах СССР, то в наставлениях или советах инопланетян нуждаемся вовсе не мы. Нам достаточно было бы просто брать пример с более пристойных и благополучных государств, существующих не где-нибудь, а по соседству, на Земле. Могли бы тогда, в самом деле, осчастливить своих подданных материальным достатком, что в теории, собственно говоря, и обещали нам «классики» и все следующие за ними «научные» демагоги. Но вот как раз этого они и не в состоянии были сделать, да и не хотели. Инициативу перехватил капитализм. Его успехи теперь очевидны, хотя нас тщательно оберегают от такого рода знаний. Однако можно ли считать их образ жизни нашей целью и полноценной и достойной целью вообще? У меня лично нет сомнений – к вершинам духа и мысли этот путь не ведет. Рабами вещей, денег, своей собственной неограниченной алчности стать очень просто, двинуться же дальше и выше этот балласт не позволит. Ты согласен?
– Конечно, хотя к пользе дальнейшего духовного развития материальный достаток, на мой взгляд, мог бы хорошо нам послужить.
– Достаток – да! Но когда погоня за новыми товарами превращается в религию и психоз, общество потребления становится генератором убожеств. Оно деградирует, а не развивается.
– Ну, – сказал я, дослушав Андрея, – если ты имеешь в виду необходимость подсказки другого рода для жителей загнивающего Запада, то для этого им не требуется контактов с инопланетянами. Достаточно познакомиться с мудростью древнего Востока. Ему известны не только истинные цели развития, но и практика их достижения.
– Известны-то они известны, – подтвердил Андрей, – да разве и там много таких, кто следует этой мудрости?
– Нет, конечно!
– А почему?
– Потому что все это очень трудно. А человек западной цивилизации употребляет свои мозги прежде всего на то, чтобы жить становилось все более необременительно и легко.
– Вот! – торжествующе возгласил Андрей. – В этом-то все и дело! Сейчас человек трудится с энтузиазмом только тогда, когда знает, что в результате ему станет легче и проще жить. И за это постоянно получает по носу или по лбу. И по заслугам. Я давно понял, что чем труднее далось предшествующее дело, тем труднее окажется следующее. Это только по мелочи удается экономить время и труд. В действительности же ухитряемся экономить ради другого – решения более сложной проблемы существования. И вся эта «экономия» пропадает без пользы для вечности. А о чем, кроме пользы для вечности, по большому счету, надо заботиться? Но надо твердо знать, что за устремлением в вечность стоят труды, труды и труды.
– А в чем они должны состоять? – спросил я, пораженный тем, как долго Андрей не раскрывался передо мной в главном. Получалось, что, высоко ценя ум Андрея, я его все-таки сильно недооценивал.
Андрей пожал плечами, потом ответил:
– Наверное, для каждого в чем-то своем, особенном. Недаром же нас создали в таком множестве. Не для того же, чтобы мы повторяли один другого. Кстати, скажу тебе, что я много размышлял о деятельности святых и чудесах, которые они творили именем Господа Бога.
– А ты веришь в это?
– Разумеется, верю. Чудеса они творили, это бесспорно. Но смотри – разве человечество задумывалось над тем, что за легкостью, с которой они совершали чудеса, на самом деле стоят неимоверно тяжкие труды? Чтобы стать небесными заступниками грешных, они не просто отказывали себе во всем, что составляет обычные человеческие удовольствия (а это, замечу, достаточно трудно, так как для большинства смысл жизни как раз и сводится к получению удовольствий), но и трудятся в молитве, в аскезе, в мыслях, а иногда в тяжких земных делах. Кто сооружал монастыри – крепости духа, хранилища книжной мудрости и защиту от нашествий? Кто сохранял и умножал культурные ценности в течение веков и тысячелетий? Кто заложил основы научного знания, притом попутно с верой? Кто исцелял тела и души, изгонял порчу? Они, святые. Если хочешь, святые всегда служили прямым упреком духовенству, в большинстве своем не способному трудиться до изнеможения на пути святости. Я думаю, многие из клириков ненавидели настоящих святых примерно той же глухой ненавистью, какой булгаковский пролетарский поэт Рюхин ненавидел Пушкина.
– Неплохо сказано, – усмехнулся я. – Михаил Афанасьевич был бы доволен. Мне кажется, что в мыслях он был бы рядом с тобой.
– Скорей я с ним, – возразил Андрей. – Тем более что ему веровать было легче и естественней.
– Из-за того, что вырос и получил воспитание еще до революции?
– Не только. Ведь его отец был видный богослов. Насколько же проще ему давались многие знания, нежели нам! Это же была настоящая домашняя Платоновская академия.
– Да, нам такое и не снилось, – согласился я.
– Ну, нам кое-что стоящее тоже в системе образования перепало – грех жаловаться. Но вот живой, трепетной духовной близости между учителем и учеником у нас, в отличие от антиков, конечно не было, а это важно, особенно при освоении гуманитарных наук.
– А ты жалеешь, что не учил в университете философию?
– Жалею, – серьезно ответил Андрей. – А ты разве нет?
– Как сказать? – пожал я плечами. – Жалости определенно не испытываю, но, скорей всего, от того, что философию нельзя «проходить». Однако ущербность своего незнания порой все-таки ощущаю. Тем более, что потихоньку философствую сам.
– Это как?
Я подумал, прежде чем ответить, и решил, что лучше представиться поскромнее.
– Сначала сам себе задавал вопросы, старался доискаться до ответов. И, вообрази, постепенно начал на них отвечать. В общем, очень постепенно погружался в эту сферу. От одной ошибки меня, между прочим, Энгельс уберег. В начале «Анти-Дюринга» я у него вычитал, что любой немецкий студиозус начинает в философии с не меньшего, чем с выдвижения собственной системосозидающей идеи. Дальше я «Анти-Дюринга» не читал, но это едкое замечание пошло впрок. Системосозидающей идеи я по первому философскому импульсу выдвигать не стал, дабы не зависнуть с ней, как корова на заборе.
– Но ты к ней все-таки пришел, к своей системосозидающей идее? – спросил Андрей. В его голосе я ощутил напряженное ожидание.
– Похоже, да.
– И в чем она?
– Позволь пока не отвечать. Это не потому, что боюсь тебе довериться. Просто у меня еще не проходит чувство, что я не со всех сторон, в меру, конечно, своих собственных знаний, обосновал ее. Не выявил достаточного числа закономерностей, чтобы они во взаимосвязи действительно выглядели системой не только для меня. Все-таки сильно боялся раньше времени впасть в преувеличенное представление о самом себе.
– А теперь оно у тебя есть – преувеличенное?
– Думаю, нет. Довольствуюсь благодарностью.
– К кому?
– К Создателю. За то, что Он дал мне кое-что познать и выйти на эту самую системосозидающую идею, которая принадлежит, разумеется, исключительно Ему и которую Он величайшей милостью дал мне осознать.
Андрей и не пытался скрыть своего удивления. Не ожидал он, значит, от воздушного извозчика с репутацией лихача философских склонностей. Да и то – как такое можно было предполагать? Впечатления завзятого мудреца я не мог производить. Теперь он, небось, начнет думать, как дальше строить отношения со мной – как прежде, то есть исходя из того, что он более развит и знающ, или по-новому? Эта мысль развеселила меня. Повернувшись к Андрею, я сказал:
– В наших представлениях, на мой взгляд, много общего, но по образованности я тебе не чета. Поэтому как был ты для меня начальником экспедиции и лидером, так и остаешься им.
– Значит, ты готов продолжить сотрудничество и участвовать в экспедиции на дальневосточную плешь?
– Готов. Несмотря на то, что после здешней плеши уже не ожидаю узнать нечто поразительное. Больше даже потому, что не хочу отпускать тебя в те края одного. Да и пользу экспедиции – в организационном смысле – я могу принести.
– Уже видели, убедились, – улыбнулся Андрей.
Внезапно я осознал, что Андрей был бы мне очень благодарен, если бы я помог ему поближе познакомиться с Инкой, хотя сам он ни за что не попросил бы меня об этом – в самом крайнем случае лишь мечтал бы о такой услуге. Этот человек, казалось, всегда был один на один со своими проблемами, пока ему по каким-то причинам сами не начинали помогать другие люди, менее даровитые и менее увлеченные, но все-таки не находящие возможным и дальше оставлять его одного. Нет, не в то время и не в том месте, не в той среде явился на свет Андрей Владимирович Абаза. Куда бы лучше ему было родиться и жить помещиком или наследником крупного состояния, которое он обратил бы на благородные и гуманные цели и меньше всего на себя. Но где там. Небеса приготовили другое – быть испытанным непризнанием, враждебностью, непониманием и лишь чуть поддержанным доверием, солидарностью и восхищением. Казалось, сам Андрей ни о чем не жалел – просто продолжал делать свое дело, как считал нужным. А что большее может сделать смертный, чтобы доказать свою пригодность Господу Богу?
Я подумал, до чего же мне повезло, что моим исканиям не мешало ничье недоброжелательство, недобросовестность и зависть. Андрей же вполне нахлебался всего этого – но не ожесточился, не проклял ни судьбу, ни страну, храня спокойствие, ближе всего подходящее под определение «олимпийское».
– Коль, ты бы не умалял своих достоинств, – продолжил Андрей, – а лучше подсказал, что еще можно сделать на этой плеши, прежде чем мы уйдем.
– Ты серьезно?
– Вполне.
– Ну, тогда одно могу предложить – выяснить, нет ли на ней гравитационной аномалии, – сказал я.
– Как же это без специальных приборов?
– Ну, как… Сделать два одинаковых маятника – один на плеши, другой за ее пределами, пустить их качаться и измерить число колебаний за одно и то же время. Если будут различаться, значит, притяжение Земли в этих точках различно.
– Хм, – произнес Андрей. – Не знаю, можно ли в наших реальных условиях достаточно чисто провести этот опыт, но мысль не лишена привлекательности. Во всяком случае, в экспедицию на твою плешь надо будет обязательно взять гравиметр. А здесь… – помедлил он, – можно попробовать обойтись кустарными средствами. Секундомер у нас есть, кварцевые часы тоже. Только маятник придется использовать один и тот же, а не два похожих – одинаковыми они у нас не получатся. Измерив в одном месте, перенести в другое, по-возможности защитив от ветра и там, и там. Если, конечно, наши геофизики сочтут, что есть смысл. У них-то, небось, точные представления о требованиях к прибору. Но, как бы то ни было, за подсказку спасибо.
– Слушай, Андрей, – вернулся я к оставленной было теме, – как получается, что звездное небо даже самому неграмотному человеку внушает уверенность, что главные тайны мироздания заключены именно в нем?
– Не знаю. Возможно, бесконечность, бездонность неба, бесчетность звезд. Но скорей всего – некое волнующее воображение чувство. Оно и побудило меня выбрать профессию.
– А нудная формалистика механики и математики его не уничтожила?
– Нет. Во-первых, формулы небесной механики очень красивы. А, во-вторых, математические зависимости в приложении к небесной сфере дают возможность заглядывать гораздо глубже в бездну, чем могут позволить самые изощренные наблюдательные средства. Так что нет – влекущего к звездам чувства это не уничтожает.
– Странно. Я думал иначе.
– А ничего удивительного. Ты же не механик, не математик.
– Но ведь и их должно вдохновлять на теоретические построения что-то из мира интуиции и воображении?
– Безусловно. Вот ты сам и назвал связующее звено между точными науками и звездным небом. Именно интуиция и воображение.
– Но и то и другое – суть божественные дары. Следовательно… наукой движет вовсе не что-то земное, а небесное? Я источник знания имею в виду…
Андрей задумался.
– Да, видимо, так. И даже не важно, верит ли ученый в Бога или не верит, другого источника новых знаний все равно нет. Знания существуют вне нас, то есть в чьей-то невообразимо гигантской голове, во Всемирном Разуме. Иначе мир и не был бы познаваем – просто не было бы чего познавать. А мы все-таки кое-что познаем, хотя чаще всего в микродозах. А, собственно, до чего ты доискиваешься?
– Как нам реагировать на получаемые свыше знания.
– То есть как это – как?
– А так. Как только для нас что-то проясняется, это должно, по идее, менять поведение людей, обращать их к Главной Истине или, лучше сказать, к полному Истинному Знанию. Потому что, если движение без знания истины равносильно блужданию наугад и является просто бедой, то движение со знанием истины, но не в том направлении, которое она диктует, наш творец квалифицирует уже как вызывающий, возмутительный грех, и кара за это уже совершенно иная.
– Вот оно что! – отозвался Андрей.
– Да, за неприятие познанной истины кара несравненно суровее. Однако люди до сих пор этого никак не поймут.
– Значит, доиграются. Несомненно, доиграются… И все равно кое-кому надо следовать истине. Иначе вообще нет никакой надежды и перспективы. Так что, ты прав, —и добавил, – Это не значит, что человечество не будет следовать за лжепророками, которых всегда хватает. Истина не может быть крикливой, хотя порой и вопиет о себе.
– Да, – подтвердил я и высказал одно из самых важных моих открытий:
– Чтобы люди не верили лжепророкам, нужно, чтобы каждый из них думал своей головой, сам доискивался до Истины, ставя под сомнение, казалось бы, очевидные представления, даже самые приятные и оправдательные. Без этого путь заблуждений, которые ведут прямо в ад – все до одного, – будет пройден человечеством до конца.
– Да-а, – задумчиво протянул Андрей. – Ты верно определил основной критерий, различающий пророков настоящих, слуг истины, и лжепророков – эти-то убеждают, что служат истине, но нужна им только собственная выгода. Скепсиса их хватает только на то, чтобы оплевать оппонента. А инструмент их – правдоподобная ложь.
Ты меня извини, я вдруг только сейчас понял, почему ты расстался с летной работой. Тот довод, который ты раньше мне приводил – насчет того, что списали по возрасту, а ты счел ниже своего достоинства доказывать профессиональную пригодность тем, кто летал хуже тебя, – как-то не вполне убеждал. Теперь-то мне ясно, что ты поступил мудро. Правда, с другой стороны, тогда не очень понятно, зачем ты обратился к уфологии и ко мне? Ты, в общем-то, постарался создать у меня впечатление, что тебе на пенсии некуда себя девать, вот ты и решил заняться интригующей экзотической проблемой. Помнится, ты даже говорил, что готов пожить в какой-нибудь таежной глуши, если там велика вероятность понаблюдать за НЛО.
– Верно, говорил. Мне уже в детстве хотелось быть охотником в тайге, ну, а потом – хотя бы просто уметь так жить. Но разве научишься, если не окунешься с головой? Кое-что я уже, конечно, и без одиночной зимовки умел, но ведь наверняка не все. А еще я думал, что одиночество, особенно длительное одиночество, даст возможность постичь что-то еще, что откроются новые грани бытия.
– Сейчас нечасто встретишь такого, который верил бы в одиночество как в стимул творческого процесса, – признался Андрей. – Это раньше были отшельники. А тут вдруг молодой, красивый, жизнелюбивый и прочее, и прочее берет и уединяется там, где анахорету и жалкого подаяния не дождаться.
– А святостью этот анахорет отнюдь не блещет… – добавил я.
– Возможно, так. Но если даже сам анахорет не свят, все-таки миссия его освящена несомненно. Ладно, допустим, ты прояснил еще один из своих мотивов. И все-таки на кой-тебе НЛО? Я вот чувствую – не стоит тебе глубоко въезжать в это дело. Тупик это. Не втягивайся, как я.
– Ну, это никому не известно, тупик или нет. Считай себя мореплавателем времен великих географических открытий. Увидел перед собой водную поверхность, уходящую вглубь неведомого материка, а что это залив, то есть тупик, или пролив, то есть проход, выяснится позже. Может, как Генри Хадсон, упрешься в Гудзонов залив. Может, как Магеллан, наугад пройдешь проливом, выводящим из океана в океан. Не все зависит от нас, добрый друг. Главное-то как раз не в нашей воле, хотя многое зависит от искренности стараний.
– Но тебя, похоже, ждут другие проливы.
– Похоже. Но на Северо-Восток я с тобой все равно слетаю.
– Да я не об этом – я о дальнейшем.
– А-а! Но я и потом останусь твоим другом, если не возражаешь, конечно. Может, еще куда с тобой попрошусь.
– Ладно, запомню. А пока давай спать.
– Давай, – согласился я. – Спокойной ночи.
XI
На сей раз ничто не мешало мне спать. Если плешь с ее полем и действовала, то не так, как в предыдущую ночь. Может, наблюдающих за нами устраивало, что мы решили сматываться. После завтрака геофизики начисто зарубили мое предложение с маятниками. С таким «оборудованием» получить сколько-нибудь достоверные результаты было невозможно. Еще через час мы свернули лагерь и двинулись в обратный путь, на Важелку. Переход речки по рояльной древесине прошел благополучно – все перемахнули на другой берег, не замочив ног. Груз за плечами уменьшился незначительно, однако шагать было заметно легче. Видимо, мы действительно втянулись в походную жизнь (в полевую – как сказали бы спутники-геологи). На коротком привале на берегу речки Андрей раздал всем по куску сахара, как это на пути к плеши сделал Иван.
– Хорошо, – произнес сидевший рядом со мной Андрей.
– Ты о чем? – спросил я.
– О том, что вокруг. О пейзаже.
– А-а! – отозвался я. – Да!
Знавал я, конечно, множество куда более впечатляющих видов, но и в нем что-то радовало душу. Давным-давно, еще не ведая о формуле «красота спасет мир», я очень даже ощущал, что красота причастна к судьбам мира. Кое-что Достоевский всё же не учитывал: красота сама нуждалась в спасении. А ее что могло сохранить? Только сознательная работа в соответствии с познанной истиной, иными словами, с Высшими законами бытия. Знание, превращенное в директиву людского поведения. Конечно, люди, научились подделывать красоту. Но ведь и настоящую красоту они тоже находили и тем, конечно же, множили знания, применяя которые можно было надеяться спасти Мир. Поэтому роль красоты в мире оставалась неизменной – удостоверять Истину непосредственно, не прибегая к логическим построениям, что особенно важно тогда, когда аргументов как раз и не хватает.