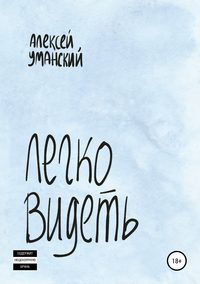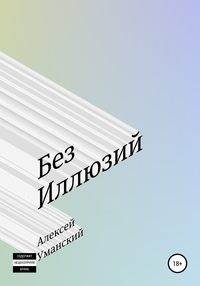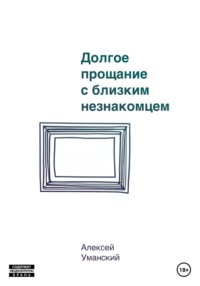В пограничном слое
Первый свет из дальних пределов женской вселенной, объясняющий мужчинам, что там происходит, если сами они не способны догадаться, пролила знаменитая французская писательница Сидони-Габриэль Колетт. Впервые мне на нее указал как на мастера литературного стиля уважаемый мной после прочтения его книги «Подводя Итоги» Уильям Сомерсет Моэм, англичанин (но по матери – француз). Я запомнил названное им имя и ждал без малого пятьдесят лет, прежде чем произведения этой дамы издали в постсоветской России. Я с интересом взялся за чтение. Стиль Колетт не показался главным отличительным достоинством ее произведений, хотя он и был хорош. Но вот чем она была действительно сильна, так это искренней откровенностью. В этом смысле ее даже можно было считать предтечей главного глашателя правды жизни в литературе и великого мастера Генри Миллера. Конечно, она ступила на литературную арену раньше Миллера и, тем более, будучи женщиной, в то время не могла говорить абсолютно прямым языком о тех вещах, которых не то что женщины, но и мужчины не смели касаться публично, называя своими именами. Но она таки сдвинула махину с мертвой точки! И она была самостоятельна не только в выборе сексуальных партнеров (что вовсе не было ново), но и в том, что сама во всех деталях решала свою судьбу и дела. Она без крикливости утверждала свое достоинство и как творческая личность, и как женщина во плоти. И у нее были свои впервые покоренные вершины мастерства в создании характеров героинь и своего собственного характера независимой, ответственной и достойной женщины, уважаемой мужчинами.
Но еще прежде, чем с произведениями Колетт, я познакомился с несколькими рассказами Анаис Нин, которую по месту рождения, местам жизни и по замужеству можно было бы назвать испано-франко-американкой. В то время мне еще не было ведомо что Анаис продолжительное время была любовницей Генри Миллера в Парижский период его жизни, но, что еще важнее, что он был ее литературным наставником, по всей видимости – внимательным, добросовестным и серьезным. И по мере прочтения все новых появляющихся в России произведений Анаис Нин, я убеждался в том, как росла и содержательность, и выразительность ее вещей, пока на примере ее повести «Шпионка в доме любви» не убедился, что она сумела убедительно доказать очень важную вещь. То, что с легкой руки многих авторов, не только женщин, представлялось сумбурными, немотивированными метаниями, легкомысленными поступками, безответственными бравадами или обезьяничаниями в соответствии с модой, когда на этом фоне происходит постоянная смена сексуальных партнеров без любви к чему и кому бы то ни было, кроме любви к внесению разнообразия в личную жизнь, Анаис Нин показала другую, причем более глубокую мотивацию. Героиня повести Сабина кажется ненасытной искательницей приключений без малого с кем ни попадя ради самих приключений, но только сперва. А по ходу «пьесы» начинаешь проникаться уверенностью в том, что это закономерный поиск женщины, ждущей, нет – прямо-таки жаждущей обретения полноты бытия с человеком, устраивающим ее и по доброте, и по великодушию, и по уму, и по любви к музыке, и в любви в сочетании с сексом, которого и она могла бы приобщить к счастью и добру и как жена-любовница, и как мать, если мужчина оказался обездолен или нуждается в ее опеке, но такого в лице одного человека она не находит, будучи не лучше, но и не хуже своих партнеров. И уже мысль возникает не о взбалмошности неуравновешенной шалой женщины, а о непроходящей драме думающего индивида, не находящего цельного смысла жизни и любви и пытающегося собирать его из мозаичных осколков. Повесть Нин вышла в 1954 году. А вот русская женщина, уроженка России, но жившая во Франции, издала свой роман «Любовь к шестерым» много раньше, видимо, вскоре после Второй Мировой войны. Просто в руки мне он попал позже, чем несколько книг Анаис. По откровенности, по осознанию и претворению на бумаге своих движущих сил, будь то мысли или чувства, да и по мастерству она, на мой взгляд, превзошла Анаис Нин, как и многих ярких прозаиков-мужчин, поднявшись на уровень сильнейших из них. Проблема, которой она занялась, была у героини по существу той же самой, что и у Ниновской Сабины. Только Мавра (так ее звали) была определенней, аналитичней и не столь склонной к жонглированию понятиями, которые занимали ее. «Любовь к шестерым» не есть любовь к шести мужчинам-партнерам. Из шести персонажей, кому героиня одновременно отдавала любовь от себя в той или иной мере, мужчин было всего трое, из них сексуальными партнерами только два – муж, которого она отнюдь не боготворила, и пожилой, даже очень пожилой любовник, с которым она искренне радовалась, в свою очередь радуя его, в постели. Третьим был некто Р. интеллектуал, физический урод, гомосексуалист – и тем не менее «неосуществимая любовь» Мавры. Она задает себе вопросы, на которые старается ответить с абсолютной точностью и откровенностью, что она чувствует, что она хочет и чего ждет или не может дождаться от каждого из этих мужчин, в каком бы качестве она ни выступала сама в связи с тем, другим и третьим. Она ищет правду о себе, не прячась за не совсем определенные слова, ей важно быть абсолютно цельной. А кроме этих трех объектов ее мыслей и чувств у нее еще и трое детей, которых она любит в соответствии с законом природы, а потому, разумеется, есть и заботы о доме и о постоянной нехватке денег на прожитье. Она поневоле строже к себе, чем безбедно живущая и свободно при необходимости врущая Сабина. Мавра кое-что утаивает, но не врет. Она даже рассказала мужу о том, что ею овладел их близкий знакомый, репетитор сына по математике, находившийся на излечении во время войны после контузии и выписки из госпиталя и приглашенный Маврой погостить на время отпуска. Она, чуткая хозяйка дома, заметила, что гость – грек Панатис – не может спать. Он всю ночь бродил по соседней комнате и этим не давал спать и ей. Наконец, она не выдержала и вошла к нему в комнату, чтобы узнать, в чем дело. Муж в это время находился в отъезде, и Панатис сразу решил, для чего она пришла. Он мгновенно швырнул ее на диван, и, будучи очень силен, овладел вовсе не слабой женщиной, которая искренне сопротивлялась, но не могла позволить себе закричать. А когда она ощутила себя взятой, ей стало вдруг необыкновенно хорошо, и о насилии до самого конца акта уже не было речи, но потом Мавра вернула себя на сцену действительных обстоятельств и назвала Панатиса подлецом и мерзавцем, хотя он оправдывался тем, что ее появление в комнате принял за приглашающий сигнал. Рано утром он ушел из ее дома и, как вскоре выяснилось, застрелился, зайдя в еще пустой трамвайный вагон. Этот акт не прошел бесследно. Мавра забеременела и обо всем рассказала мужу, а тот понял ее и велел рожать и появившуюся на свет «дочь греха» любил, как и двух собственных старших детей. Так что даже такое событие не изменило привычного хода ее жизни, не вырвало целиком из плена одних гнетущих или в основном безрадостных обстоятельств, но и не перебросило в другие. А инцидент с Панатисом так и провел в ее жизни две памятные борозды с очень тоненькой – прямо-таки тонюсенькой перегородкой между ними: одна – секс против воли, другая – секс с удовлетворением, однако без исчезновения непримиримости к поступку этого вообще-то выдержанного и порядочного человека. Насилие-ненасилие, удовольствие и отвращение – к какому классу отнести реакции Мавры? Снова налицо ситуация пограничного слоя – чуть качнешь в какую-то сторону хрупкое равновесие – можно будет сказать одно, а в другую – совсем противоположное, тогда как жить-то в душе приходится и с тем, и с другим в одно время, лишь памятью чувств под влиянием настроения подаваясь то к одному полюсу в собственных оценках случившегося, то к его антиподу. И только продолжающаяся несмотря ни на что жизнь когда-то усредняет, стабилизирует оценки в районе экватора. Итак, из разделенных на части ощущений от желаемого ЕДИНОГО неразрушимого бытия, рождается стремление собирать, агрегатировать в меру умений и испорченности, достижимую для данного человека многоаспектную составную реальность, которая действительно делает существование переносимым, однако, увы, не приносит чувства полноценности бытия и гармонии между тем, чего хочешь достичь, и тем, чем можешь обладать.
Недовольство жизнью и самим собой может приводить разных людей к самым разным последствиям. Их ассортимент настолько велик, что нет смысла заниматься перечислением и полным перебором. В данном же случае для меня важно отметить, что оно может стать действительной силой в развитии личности. Дух, сознающий, что он угнетен, ищет свой путь к свободе. Погружение в творческую работу позволяет обретать уверенность во внутренней свободе. И тут уже стираются различия в ощущениях мужчин и женщин, сто́ит им только перейти за границу этой страны – творческой свободы. Они делаются неуязвимы к чужим мнениям. Людская и социальная мерзость, разумеется, напоминает им о себе, пытается вернуть и присоединить их обратно к массе тех, кто «ничего подобного себе не позволяет» – и таким образом действительно губит многих людей, занявшихся служением своему найденному творческому призванию, осознанному в ранге своего высшего духовного долга. Но всех погубить все равно никогда не удается. Городские растения умеют пробиваться даже сквозь каменные плиты и асфальт. Питающая всех существ жизненная энергия в конце концов проявляет себя в качестве высшего деятельного начала, которому можно временно навредить, но которое все равно одержит победу. И первым, кто обязывает нас признать эту истину, является сам Творец, царящий во всем Мироздании и скрытно обитающий в то же время внутри каждого из нас.
Глава 5
Книга еще одной писательницы – Ольги Ивановны Грейгъ привлекла моё внимание в силу давнего интереса к крайне скудно освещаемой в открытых публикациях теме, а название книги было само по себе достаточно интригующим и красноречивым: «Секретная Антарктида или Русская разведка на Южном Полюсе». А чтобы потенциальному читателю было ясно, что речь в книге пойдет не только о происках советской и русской разведок, на обложке рядом с картой Антарктиды в циркумполярной проекции был помещен портрет товарища Сталина, собеседующего с германским фюрером Адольфом Гитлером. Твердый знак на конце фамилии автора – Ольги Грейгъ – показался мне более явным признаком моветона в сравнении с совместным портретом двух величайших планетарных злодеев – от него так и веяло откровенной претенциозностью в попытке присоединить свою персону к древней и достаточно знатной шотланско-русской семье. О множестве совместных дел у Сталина и Гитлера я знал давно. Факты такого рода выскакивали из целого ряда воспоминаний серьезных людей. Их было столько, что начатая еще в раннее советское время оголтелая антигитлеровская (она же и антифашистская) пропаганда, продолжающаяся в общих чертах и в постсоветский период, не могла перекрыть их полностью и даже как-то объяснить в наиболее одиозных случаях.
Так что я знал о тесном сотрудничестве Сталина и Гитлера, СССР и Германии помимо «Пакта Молотова – Риббентропа», в соответствии с которым стороны поделили сферы своего влияния и господства в Восточной Европе в канун Великой Отечественной войны? Сам по себе факт заключения пакта и договора о ненападении с «фашистской нечестью и чумой» был безусловно и абсолютно позорным на фоне лучезарной невинности и беспорочности родного советского коммунистического строя и государства, и не мог не забрызгать заразной грязью этот самый фон. Никакому сколько-нибудь умеющему думать человеку, даже ребенку, в канун войны нельзя было убедительно разъяснить, что мы-то от своих высоких принципов борьбы за торжество коммунизма (не фашизма же!) отнюдь отступились!
А уж когда началась война, глаза сразу раскрылись на многое. И на то, что немцы куда лучше подготовились к войне, чем Советский Союз во главе с «величайшим вождем и учителем всех времен и народов», хотя именно в соответствии с его «гениальными» указаниями громадная страна (куда как больше Германии) и весь советский народ уже больше десятка лет только и делала, что в ущерб всем остальным делам готовились к войне; и на то, что при фашистах немцам жилось куда лучше, чем нашему народу при родной советской власти. Обнаружилось, что при людоедском гитлеровском режиме в «фашистских застенках» (а он был действительно людоедским режимом) содержалась куда меньшая доля немецкого населения, включая евреев и цыган, чем при родном коммунистическом строе, хотя и об особой роли евреев в СССР тоже старались не забывать.
А уж после войны стало и вовсе очевидно, что фашисты куда старательней заботились о немецком народе, чем вожди советской власти о своем. Гитлер и его полководцы руководили своими войсками так, что их потери в разных случаях бывали в четыре-пять-шесть раз меньше наших. И это притом, что они владели почти половиной территории Европейской части СССР в течение трех лет, тогда как к границе Германии мы вышли меньше чем за год до своей победы – только в 1944 году. А какая чудная была песня «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!» – и пели ее все от детского сада и школ до институтов и военных училищ и, разумеется, постоянно «в нерушимом воинском строю». И другая песня была ничуть не хуже первой: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим»! И ее опять-таки пели от детского сада и далее по всем слоям общества, со всеми остановками. Конечно, «дорогой товарищ Сталин» никогда не позволял оглашать величину наших потерь ни в абсолютном размере, ни в сравнении с немецкими. Но фронтовики-то в разговорах с людьми своих оценок не скрывали – им-то было видно, сколько после каждого боя полегло «ихних и наших». После смерти Сталина, случившейся в марте 1953 года, и в последующий период стало появляться довольно много воспоминаний, в рамках которых, несмотря на старания цензуры, появлялось все больше любопытных и честных фрагментов – и не только насчет наших потерь. Ряд военных специалистов разного профиля сообщали о своих командировках в Германию в предвоенное время – и все, в один голос, утверждали, что по распоряжению Гитлера им «показывали всё» относившееся к новейшим немецким достижениям в соответствии с профилем делегации. Немецкие военные несколько изумлялись приказу, обязывающему к полной откровенности, но, получив подтверждение от своего начальства, честно раскрывали все, будь то самолеты, артиллерия, надводные корабли и подводные лодки, и стрелковая техника. А уж о танках, что они испытывались немцами на наших полигонах, я знал буквально из первых рук – от своего тестя – полковника-инженера танковых войск, отца первой жены Лены. Уж наши инженеры на Кубинке, в их числе и он, исследовали немецкие машины досконально. Образцы различного вида новинок немцы часто продавали нам вместе с технологиями их изготовления. Принимали заказы и на уникальные изделия, например, на орудие главного калибра для строящихся советских линкоров. А уж много позже, после развала Союза, стало поступать разных сведений и вовсе без счета. Величайший ас советского времени – величайший по заслугам, но в качестве Первого так официально и принародно не признанный – Иван Федоров – рассказал и вовсе удивительную вещь. Он был в составе советской авиационной делегации приглашен на немецкую авиабазу. Принимал их лично рейсмаршал Геринг, сам в прошлом истребитель-ас. Нашим летчикам предложили на выбор, на каком самолете они хотели бы сейчас полетать. Иван Федоров выбрал новейший турбореактивный самолет профессора Хейнкеля. Таких машин он не мог до той поры даже видеть – их не было нигде ни у кого. За полетами наблюдал не только Геринг, но и сам Гитлер. А Федоров отлетал так, что потрясенный Геринг сказал: «Мой фюрер! У Германии нет таких пилотов!» Феноменальное мастерство советского летчика было оценено по самой высокой шкале: Гитлер наградил Федорова редчайшей воинской наградой – Рыцарским Крестом с бриллиантами. Так что близость двух якобы «полярно противоположных» политических фигур – Сталина и Гитлера – для меня никакой новости не представляла. Более того, я внутренне не сомневался, что оба диктатора лично встречались не раз и не два, хотя официальная пропаганда это старательно опровергала. Ну не могло быть подобного военного и политического сближения без прямых контактов двух главных лиц – и всё!
А вот с информацией насчет Антарктиды дело обстояло куда как хуже. Сведений о том, что там делалось перед войной, во время и сразу после войны не было почти никаких. Поэтому первой большой неожиданностью стала для меня опубликованная в газете «Неделя» статья о гитлеровских военных базах в Антарктиде и о послевоенной попытке американцев покончить с этими гнездами гитлеризма еще в 1947 году, когда туда была направлена военная эскадра под командой известного летчика-полярника адмирала Ричарда Бэрда. Строго говоря, мне на глаза попалась только вторая заключительная часть статьи, помещенной в двух номерах «Недели». Но и прочитанного с избытком хватило на то, чтобы хорошо огорошить. Во-первых, впечатлял масштаб гитлеровских усилий внедриться в ледяную пустыню и под нее, но, во-вторых, еще более сногсшибательным, чем такое экзотическое занятие как размещение кучи народа – минимум тысяч человек – в месте, где жить невозможно без каждодневных героических усилий, да еще во время борьбы не на жизнь, а на смерть с сильнейшими странами мира, выглядел тот отпор, который получила от ледовой колонии Рейха эскадра адмирала Бэрда. Она была атакована вылетевшими из-под воды летающими тарелками, которые двигались с невероятной скоростью, притом маневрировали удивительно резко и поражали буквально напоказ взлетевшие с американского авианосца самолеты каким-то лучевым оружием. В несколько минут картина полного разгрома военных кораблей и самолетов стала казаться неизбежной перспективой – был потоплен эсминец, сбито несколько самолетов, а от новых атак защищаться было явно нечем. К счастью, атаки прекратились столь же внезапно, как и начались. Летающие тарелки нырнули себе под воду, а ошеломленным американцам предложили убраться от берегов Земли Королевы Мод куда подальше, пока целы. Это было изложено Бэрду на английском языке человеком, говорившим с немецким акцентом во время встречи на берегу ледяного континента, куда Бэрда пригласили прилететь на переговоры. Американцы благоразумно вняли ультиматуму и вернулись восвояси. Но вопросов после этого осталось только больше, чем до этого было касательно немецких баз на самой Антарктиде. Если гитлеровцы действительно располагали таким чудо-оружием (кстати, Гитлер громогласно его обещал!), то почему они не попытались с его помощью изменить ход проигрываемой глобальной войны? Ведь не на Антарктическом же континенте были сделаны эти невиданные летательные аппараты, где не было ни добывающей, ни перерабатывающей, ни машиностроительной промышленности? Да и с чего вдруг у «последышей» разгромленного Рейха вдруг проснулся такой гуманизм – уничтожили всего один корабль из четырнадцати и несколько самолетов из сотни – когда могли бы свободно всех перетопить, так что и следа бы не осталось? Последующие годы почти ничего нового не добавили к начальной информации, хотя она подтверждалась несколькими новыми публикациями, не содержавшими почти ничего нового по существу. Разве что названия немецко-фашистских колоний на седьмом континенте: «Новая Швабия», «Новая Бавария». А еще поступали сведения, что летающие тарелки в Германии действительно были сделаны и действительно летали, о чем даже, по утверждению заслуживающих доверия лиц, например, профессора Эрнста Мулдашева, имелся виденный ими вполне документальный фильм. В общем, загадочность геополитической реальности, сложившейся после Второй Мировой войны, с ходом времени становилась не меньшей, а большей. Вот в таком положении – с точки зрения информированности – и находился я, покуда в 2008 году не купил только что вышедшую из печати книгу Ольги Грейгъ с чертовым твердым знаком на «фамильном конце».
Знакомство с книгой оказалось более чем занимательным. В процессе чтения сразу, причем с полной определенностью, выяснилось следующие вещи.
– Книга документальна ПО СУЩЕСТВУ, поскольку основой для нее были откровения ныне покойного ее мужа Олега Грейга, не нуждавшегося ни в каких фантазиях и приукрашиваниях, поскольку он был доверенным лицом и подчиненным секретаря ЦК КПСС, возглавлявшего личную, так называемую «партийную» разведку Сталина, существование которой отрицалось во все советские времена и не подтверждалось в постсоветские.
– Факты, приведенные в книге, принципиально не могут быть подтверждены ни бумагами, ни фотографиями, ни живыми свидетельствами – это автор сообщает совершенно прямо, отчего, однако, убедительность фактов не страдает.
– Ольга Ивановна Грейгъ, так же, как и ее покойный муж и конфидент, не скрывает своего негативного отношения к евреям и еврейству вообще и имеет для этого серьезные основания.
– Муж и жена Грейгъ, не одобряя гитлеризма и его идеологии (что несомненно), считают необходимым воздать должное немецким ученым, инженерам и другим специалистам, создавшим в недрах закрытых научных гитлеровских учреждений, находившихся под контролем СС и лично рейхсфюрера Гиммлера, нечто такое, что предопределило крупнейшие достижения всех стран-победителей Германии в области научно-технического прогресса на десятки лет вперед.
– Сообщения Грейгов подтверждали и прежде встречавшуюся в литературе информацию о том, что гитлеровские специалисты вступили в контакт с представителями некой высшей цивилизации и свои исключительные знания получали с помощью мистиков и оккультистов Рейха именно от них.
Этим беглым перечислением основное содержание книги отнюдь не исчерпывалось. Я привел его в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть – относящиеся к этим тезисам вопросы, а также то, как они освещались в книге, послужили мне важной основой для того, чтобы доверять сообщениям Грейгов, как бы невероятно они ни выглядели, ибо именно по данным вопросам я мог их проверять. А дальше открылось широкое поприще для анализа весьма разнообразных сведений, причем проводить его мне в достаточной степени помогало сходство (при противоположности) стремлений к истине как у меня, так и у Грейгов. Противоположность направленности сторон была предопределена тем, что Грейги, располагающие исчерпывающей информацией, стремились ее частично обезличить и зашифровать (Олег Грейгъ наверняка был обязан вообще ни о чем не рассказывать, к счастью, в конце концов в чем-то изменились сами времена), а я, наоборот, желал по возможности расшифровать тайны, восстановить имена и наполнить лакуны содержанием – естественно, по мере сил и собственных возможностей ассоциировать информацию из разных источников и синтезировать на их основе более полное представление о том, на что Олег Грейгъ только слегка намекал, когда и вовсе боялся даже пикнуть.
Именно в этой связи, пожалуй, имеет смысл начать работу «по дешифровке» с того, чем была личная разведка генерального секретаря ВКП (б), затем КПСС Сталина. Единственным до-Грейговским источником информации о ней был роман бывшего агента ГРУ Владимира Резуна, бежавшего в Англию и ставшего там отличным писателем Виктором Суворовым, имевший название «Контроль». Согласно Суворову, таково было неофициальное название главного тайного инструмента вождя партии и всего советского народа в работе по поддержанию, укреплению и распространению его личной власти как внутри страны, так и во всем мире, то есть в планетарном масштабе, если даже не еще шире. Чем занимался «Контроль» у Сталина, было показано Виктором Суворовым с достаточной полнотой:
– первое – контроль за работой официальных разведывательных и карательных органов СССР независимо от их ведомственной принадлежности, дабы не зависеть от позиции лишь одной службы и пресечь возможность организации путча их честолюбивыми лидерами, развратившимися от сознания своей силы и возможностей конспиративно осуществлять тайновластие;
– второе – выполнение карательных функций, диверсий, похищений, переворотов, мятежей и революций, внедрение своих агентов во все слои общества и политические партии за рубежом, вербовка действующих официальных партийных функционеров и крупных государственных чиновников, не гнушаясь никакими методами, особенно шантажом;
– третье – установление прямых контактов с людьми и фирмами-изготовителями нужной Сталину продукции, заключение с ними контрактов и заказов, минуя официальные государственные органы;
– четвертое – проведение постоянной аналитической обработки информации по широчайшему кругу данных с целью прогнозирования обстановки в мире и поведения различных лиц, которые могут влиять на ее изменение;
– пятое – проводить или курировать научные исследования и опытно-конструкторские работы по особо важной тематике с точки зрения самого генерального секретаря.
Все функции личного конспиративного разведывательно-управляющего комплекса вождя под названием «Контроль» в романе Суворова полностью совпали с тем, о чем говорилось со слов Олега Грейга в книге Ольги Грейгъ о сталинской «партийной» разведке. О чем это свидетельствовало? А о том, что за границей, в частности – в Великобритании – знали о сталинской личной «партийной» разведке достаточно много для того, чтобы числить за ней вполне конкретную деятельность – ведь не в Советском же Союзе офицеру ГРУ Резуну – Суворову рассказали о «Контроле» – такие сведения он мог получить только в стране, где он живет до сих пор – Великобритании. Нет сомнений – Суворов блестящий аналитик, в работе которого почти не видно изъянов и уж точно нет крупных промахов. И раз уж его информация верна в отношении «Контроля» в общих чертах, то можно продолжить исследование истинности его романа и в более конкретных деталях.