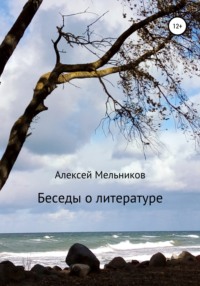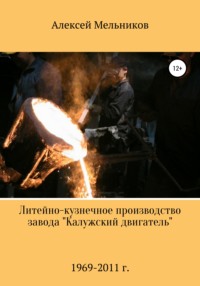Беседы о науке
Более полувека «отец адронов» посвятил преподавательской деятельности, читая курс на кафедре физики элементарных частиц в МФТИ. Талант педагога сначала заставил ходить по коридорам «физтеха» легенды о лекциях академика Окуня, затем принес выдающемуся ученому еще и славу популяризатора науки, когда были изданы ряд блестящих книжек, максимально доступно объяснявших школьникам и студентам головокружительные формулы из теории элементарных частиц.
В последние годы жизни Лев Борисович вообще предпринял отважную попытку в вышедшей на русском и английском языках книжке «Азы физики: очень краткий путеводитель» с помощью элементарного математического аппарата распечатать самые сокровенные тайники физической науки. В частности, попытаться буквально на пальцах (не посягая, естественно, при этом на научную строгость) растолковать народу таинство той самой «частицы Бога», над разгадкой которой он сам бился около полувека и секрет которой был только что раскрыт на поименованном не без участия Льва Борисовича гигантском ускорителе, спрятанном глубоко в швейцарских Альпах.
Мудреной и витиеватой выдалась научная стезя к подножию самого грандиозного научного сооружения XXI века. Одна из тропок повела к нему в 1929 году из малюсеньких Сухиничей, петляя между Смоленском, Людиновом и Думиничами, где в разное время пребывала семья Льва Борисовича, где работали его родители и где родился сам будущий академик РАН, снискавший впоследствии регалии члена Европейской академии наук, почетного члена Нью-Йоркской академии наук, действительного члена Института физики Великобритании.
Оставила на этой стезе и свои памятные вехи война. Отец ученого – Борис Григорьевич – воевал, в том числе и в Калужских краях, был ранен, в окопах ни на минуту не переставал печься о родных и всякий раз находил возможность подбодрить домашних нежными посланиями с передовой. «Вчера я достал целую корзину помидоров, – делился в письме нечаянной фронтовой радостью от встречи с земляками отец будущего физика-теоретика. – Таскал их несколько километров, порядочно попотел. Зато сегодня всех угощаю помидорами. Это наградил меня бывший председатель Думиничского райисполкома. Встречал я его в 1929 г., и представь себе, узнал…»
Хотелось бы, чтобы не только страна, но и земляки Льва Борисовича Окуня знали и хранили память об этом выдающемся учёном.
Философ Александр Богданов (Малиновский)
Забытый философ, экономист, социолог, психолог, биолог, врач и занимательный беллетрист, а ещё – опальный вольнодумец, отбывавший на рубеже XIX–XX веков в купеческой Калуге (да и не в ней одной) политическую ссылку – Александр Александрович Богданов (Малиновский). Самобытный русский мыслитель.
Из той ещё, мощной, но ушедшей навсегда когорты выдающихся отечественных учёных-энциклопедистов – Менделеев, Вернадский, Малиновский… Как и большинство интеллектуалов неспокойного конца XIX столетия, захваченного марксизмом. Как и многие, не слепо приверженные ему, получивший в ответ сложную судьбу, период мучительных научных исканий, находок, разочарований, предательств, наговоров, десятилетия забвения научных трудов, отважную смерть и посмертное признание.

«Ядро ревизионизма – А. Богданов, А. Луначарский, В. Базаров – формировалось в Калуге», – всё, пожалуй, что можно сегодня найти в Калужском областном архиве документов новейшей истории (бывшем партархиве) относительно пребывания в городе в 1900–1901 годах одного из выдающихся теоретиков русской социал-демократии, создателя всеобщей организационной науки «Тектологии» – по сути предтечи общей теории систем и кибернетики, сильнейшего оппонента В. Ленина в теории революционных преобразований – Александра Богданова. «Духовное родство ревизионистов закладывалось в Калуге», – всё ещё грозно вещает с пожелтевших архивных страниц партийный приговор. Судя по всему, не отменён он и поныне – память о выдающемся учёном Александре Богданове в Калуге сегодня не приветствуется. О приобретённом им здесь новом друге – Анатолии Луначарском – кстати, тоже.
Богданов хотел совсем не много – всего-навсего организовать правильную жизнь. «Утопию разумных человеческих отношений», как трактовал её этот неординарный мыслитель. Не то чтобы справедливую, святую или счастливую (чем, собственно, и увлеклись впоследствии русские революции, разгромив много чего попутно), а именно – правильную. Для этого нужна была теория организации правильной жизни. Система. Наука. Марксизм? Отчасти – да. Но – не только. Не так узко. Не так упрямо. Не так назидательно. Богданов постепенно шёл к главной своей работе – «Тектологии».
Он был теоретиком с детства. Рационалист. Шахматист. Феноменальная память. Золотая медаль в Тульской гимназии. Легкое поступления на Физфак (так бы его сейчас назвали) МГУ. Изгнание из университета за чрезмерное увлечение марксовским наследием. Ссылки: Тула, Калуга, Вологда. В промежутках – экстерном диплом психолога в Харьковском университете, лекции в нелегальных кружках рабочих-оружейников в Туле, занятия по подпольной политэкономии с железнодорожниками Калуги, жаркие дискуссии с Бердяевым, Савинковым и Луначарским в Вологде. Бурная публицистика. Тайные кружки. Идейные разногласия. Партийная стезя. Всё выше, и выше, и выше. Ленин…
Двум медведям в одной берлоге ужиться не пришлось. К 1910 году сильнейший конкурент будущего Ильича был сброшен с «Олимпа» [RbD3]РСДРП. Поводом послужили научные публикации Александра Богданова по теории эмпириомонизма – ревизионистской, с точки зрения Ленина. Будущий вождь в негодовании сочинил главный свой философский трактат «Материализм и эмпириокритицизм». В нём решительно отхлестал Богданова за отступничество от марксистских канонов. Недостаток философской глубины и явное превосходство Богданова над Лениным как философа было компенсировано «нахальством» и «хулиганским тоном», которые не смог не отметить в ленинской отповеди Богданову Максим Горький.
«Самые мертвые из мертвецов – те, которые приковали себя к чужой могиле», – горестно напишет в ходе злосчастного спора о ленинских методах теоретизирования и политизирования Александр Богданов. «Грубый шахматист», – саркастически поименует уже после революции своего жёсткого оппонента не раз ставивший ему мат Богданов. Со стороны печально наблюдая, как идея пролетарской революции, которую нужно было сначала выпестовать с помощью пролетарской культуры (так мыслили преобразования первые марксистские кружки «калужских ревизионистов»), обернулась военным коммунизмом, гражданской войной и разрухой.
После 1910 года Богданов постепенно отойдёт от политической деятельности и займётся одной наукой: экономикой, философией, биологией, дойдя даже до поста директора первого в мире Института переливания крови. Оному в итоге и принесёт жертву. Во имя науки. Неоценённую, к сожалению, по достоинству, как и главный его научный труд – «Тектология» – теория систем, науки об общих законах организации.
Впрочем, в последние годы интерес к научному наследию некогда отстранённого от истории русского мыслителя резко пошёл в гору. Никто уже не оспаривает тот факт, что именно Александр Богданов заложил основы той дисциплины, что впоследствии назвалась кибернетикой и сделала качественный прорыв в научном познании человека. Интересно, что первые теоретические труды забытый русский гений писал в Калуге, в соседстве с другим гениальным провидцем – Константином Циолковским, что в начале 1900-х годов разрабатывал другой прорыв – не в новую общественно-экономическую формацию, а в космос – и квартировался через дорогу от дома, где собирались для дискуссий Богдановский кружок. Но два будущих творца новых наук, судя по всему, так ни разу друг с другом и не повстречались. Разве что – в учебниках истории…
Астрофизик Олег Верходанов
У него и фамилия была соответствующая – наполовину альпинистская, наполовину космическая, с заданностью от земли куда-то вверх: то ли в горы, то ли к звездам. Оказалось – в оба адреса сразу. Большую часть своей короткой жизни Олег Васильевич Верходанов прожил и проработал на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии, там, где под маркой Специальной астрофизической обсерватории РАН прячутся в горах «глаза и уши» отечественной астрономии – крупнейшие российские телескопы. Откуда протягиваются нити познания до самых отдаленных глубин Вселенной, и куда это познание стекается, через линзы и радиоантенны в стройные, хотя и потрясающие воображение современные теории мироздания.
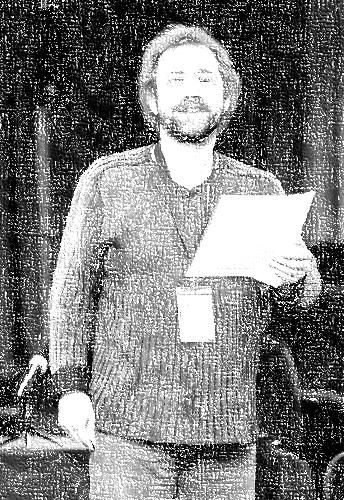
О них, об этих теориях, Олег Верходанов мог рассказывать часами. Очаровывая публику изящной грандиозностью космоса. Покоряя глубиной познания того, во что так легко умел влюблять всякого, кто хоть однажды смог побывать на его лекциях – очно или через интернет, в регулярно организуемых при его деятельном участии в Нижнем Архызе Летних астрофизических школах фонда «Траектория». Столь мощного детонатора научного любопытства и дерзновенного поиска ответов на самые глубинные загадки Вселенной, каким был Олег Верходанов, пожалуй, сегодня уже и не найти. Впрочем, осознать потерю эту нам ещё предстоит…
В науке, да и не только в ней, нужны, крайне необходимы люди, берущие на себя роль маяков. Способных пробивать лучами знаний и таланта, казалось бы, беспросветные дали. Где мрак, неясность, хаос… И вдруг выходит на сцену улыбчивый такой приятный человек, берет в руки микрофон, включает проектор и очень умно и легко, можно даже сказать, изящно «наводит порядок» в таком хаосе, что накопился за последние 14 млрд лет, если считать от рождества Вселенной.
И ты понимаешь, и все понимают, что кажущийся раньше хаос космоса – это вовсе даже не хаос, не тьма, не бездна, а … песня, которую надо уметь пропеть, мало того – вложить в уши другим. Чтобы и им услышать величественный оркестр Бытия. Олег Верходанов сумел сделать именно это – вложить музыку сфер в умы и души тысяч и тысяч молодых (впрочем, и не очень молодых, к коим относится и автор) людей, которых никогда отныне не отучить от восхищения Вселенной.
Философ Николай Фёдоров
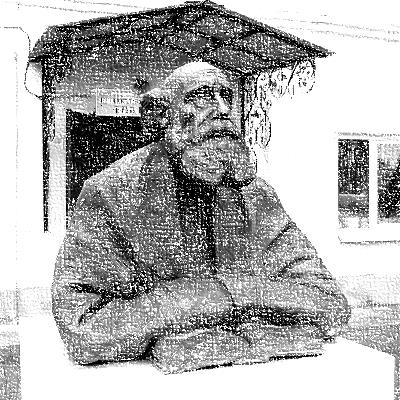
Гагариных оторвалось от Земли на самом деле двое: старший и младший. Первый прежде нащупал дорогу в космизм. Второй уже век спустя – в космос. Первооткрывателем значился Николай. За ним уже потянулся Юрий. Оба – из самой глубинки: Тамбовской да Смоленской. Космос, стало быть, оттуда видней. Ближе – так что ли. А может – и не ближе… Разве что ключ от него именно в Тамбовских Ключах и обнаружился. В самом что ни на есть русском захолустье. Здесь в 1829 году и удосужился появиться на свет первый русский космист Николай Федоров. Он же – незаконнорожденный сын князя Гагарина. Звездная фамилия еще вон когда позвала к звездам…
Про него мало что доподлинно известно. Хотя жил страшным скромником и библиотечным анахоретом не так уж и давно – практически вровень с Толстым. Даже был временами с ним накоротке. Во всяком случае – до богохульных выходок графа. Притягивал своей философией воскрешения Достоевского и Владимира Соловьева. Вдохновлял космоутопией вечной жизни Циолковского и Пастернака. Эхом радости от оживления всех предков до единого отдавался в брюсовской «Невозвратности»» и платоновском «Чевенгуре». Каким-то чудом узаконился даже в русском авангарде. Точнее – угадался в контурах теней, отбрасываемых на революционное искусство то ли Шкловским, то ли Малевичем, а то – и самим Владимиром Владимировичем Маяковским. Да и, выясняется, иные фильмы Сокурова – 100-процентный федоровский мотив. А именно – воскрешения павших…
Суть всего лишь в легкой оппозиции: воскресение или воскрешение? Но легкой ли?.. На место традиционного для христианства трансцендентного воскресения в день страшного суда русский философ Николай Федоров ставит всеобщее воскрешение из мертвых. Без избранных. Без разделенных, как принято в религиозной традиции, на тех, кому – в ад мучиться, и тех, что – в рай лицезреть. Ибо – только человеку, как считает русский Сократ, дано спасти мир от энтропийной разрухи. То бишь – от хаоса, к которому приговорена Вселенная слепой природой. Её, эту природу, Федоров тщится поставить на путь истинный. Путь этот должен указать человек. В нем, как считает библиотечный мудрец, Всевышний спрятал главный запал дальнейшего развития Вселенной.
Как, впрочем, и его самого – человека, двигателя Вселенной. То есть – его преображение. В первую голову – нравственное, оплачиваемое по самому высокому курсу: возвратом ссуд на жизнь всем, кто выдал тебе их ранее. То есть – воскрешением отцов из мертвых. Как? Лучше не спрашивайте. Точнее – попробуйте принять необходимость этого постулата на веру. А о реализуемости поговорим после…
Итак: главный враг человека – это смерть. А с врагами надо бороться. Всем миром. Даже больше, чем всем – живыми и павшими, которых для этой борьбы Федоров предлагает воскресить. Иначе не исполнится божественное предначертание человека. Ему не сбыться. Не бывать самим собой. Точнее – тем, каким его хотел бы видеть Всевышний. Найдено главное дело для каждого на земле. Общее для всех. Борьба со смертью. За воскрешение и преображение. Федоров именно так и озаглавит потом свой краеугольный труд – «Философия общего дела».
Дело это, понятно, не только земного масштаба. А больше – космического. Если угодно – астрофизического, когда границы затеянного выпирают далеко за обозримый горизонт, уносясь к бесконечным звездам. И «общему делу» уже тесен человек как таковой, его усовершенствование вплоть до нескончаемости. «Делу» нужна Вселенная в целом. Ибо без преобразовательной деятельности человека она пропадет. Звезды застынут, как толкует физика. Скажем – тоже второе начало термодинамики. Дабы космос «согреть» – потребно человеческое дыхание. Цивилизация. Разум. И – смертный приговор физиков для остывающей Вселенной может быть оспорен. Отменен. Надо лишь, как увещевал Федоров, навалиться всем миром. Даже больше, чем всем: миром по ту сторону жизни и по эту. Короче – стереть между этими мирами грань.
Мудрец сетовал на неродственность и небратство. Все раздираемо противоречиями. Кипит вражда и грохочут войны. Причины – больше природные. Те, что сотворены нерегулируемым космическим хаосом и отпечатком легли на род людской. Посему – природе, космосу нужен опытный поводырь. Дабы те перестали искушать несовершенных человеков: ссорить их и вводить в гнев. Несовершенства, таким образом, должны улечься. Люди – поумнеть. Космос – облагородиться.
Русский космизм, званный в этот мир Николаем Федоровым, взял на себя роль пастора звезд и галактик. Духовника квазаров, пульсаров и черных дыр. Планет – в частности. Земли – в том числе. Всего, на что падает взгляд вверх. Туда, где человеку дано навсегда остаться самим собой. То есть – творимым и творцом.
Академик-турбостроитель Владимир Кирюхин
Калуга – город купеческий. Так получилось. Заметно прижимистый. Посему с наукой как-то здесь не особенно клеилось. Больше – с торговлей. Да – с бюрократией. Да – с крестными ходами…

За шесть с половиной веков город обзавелся единственным полновесным академиком. Плюс – еще одним настоящим членкором в придачу. Оба – люди достойные. Понятно, в купеческих реалиях – редкие. И точно: оба – залетные, нездешние, не калужских кровей. Первый – академик Владимир Кирюхин – с Полтавщины. Второй – членкор Александр Дерягин – с Урала. На пару сделали научное реноме не особо ранее усердствовавшей в науках Калуге.
Когда на рубеже веков я, калужский газетчик, собрался с духом взять интервью у патриарха отечественного турбиностроения Владимира Ивановича Кирюхина, то не знал, что оно будет последним в его жизни – содержательной, длинной и героической. Мало того, что – настоящий академик, создатель турбин для атомных подводных лодок, главный конструктор калужской «турбинки», но и еще – фронтовик-орденоносец.
Я знал, что Кирюхин никогда не мельтешил на публике, не рвался выступать с трибун, если и депутатствовал, то без фанфар, не мелькал в прессе. Причем настолько, как я позже выяснил, не мелькал, что моё с ним последнее интервью оказалось чуть ли не первым за его полувековой стаж главного конструктора. Во всяком случае, других его публикаций, сколько я ни старался, обнаружить не удалось.
Видимо, сказывалась секретность. Я припомнил, как всякий раз приходя по газетным делам в начальственные кабинеты КТЗ, чувствовал за спиной дыхание представителя первого отдела. Один раз даже уловил робкий взгляд генерального в адрес служителя заводского ФСБ – мол, разрешите об этом народу сказать или нет … И в самом деле, всё было очень серьёзно – калужская «турбинка» усердно ковала ядерный щит страны. Тот, что пребывал не на суше или таился в катакомбах пусковых шахт, а был спрятан в пучине морской. А также – за многочисленными проходными с хитрыми системами допуска к цехам и КБ.
К Кирюхину меня проводили длинными коридорами главного корпуса КТЗ, а потом заводского КБ. Помню стеклянные двери. Чертежные доски (компьютеры только входили в обиход). Столы. Кабинеты. Довольно пожилой человек в коричневом костюме и при галстуке тепло встретил меня в одном из них – довольно скромном и тесном. Я огляделся. Ничего лишнего. Стиль деловой. В «красном углу», где раньше вешали портрет Ленина, а еще раньше – лики святых угодников – портрет Доллежаля.
– Ваш учитель?..
– Да, это он, Николая Антонович, мой товарищ, – сразу окунулся в воспоминания академик. – Это был плутоний – первый ядерный реактор для лодок. Доллежаль его конструировал. Высочайший профессионал. Мы начали делать для него одну систему. Сложную. Я заупрямился, стал сопротивляться: мол, бесполезно все это – ничего не выйдет. Тогда Доллежаль обращается в правительство. Вызвали меня. Наподдали как следует. Пришлось сделать. Доллежаль, правда, потом извинялся, что ругаться ходил на меня. А не за что было извиняться. В итоге получилось так, что мне и еще пяти академикам дали за эти дела Ленинскую премию…
В словах «эти дела», очевидно, заключалась гигантская работа особой секретности, проводимая оборонным комплексом страны, в том числе и на промышленных площадках КТЗ.
– И все-таки первые атомные подлодки ходили не на калужских турбинах…
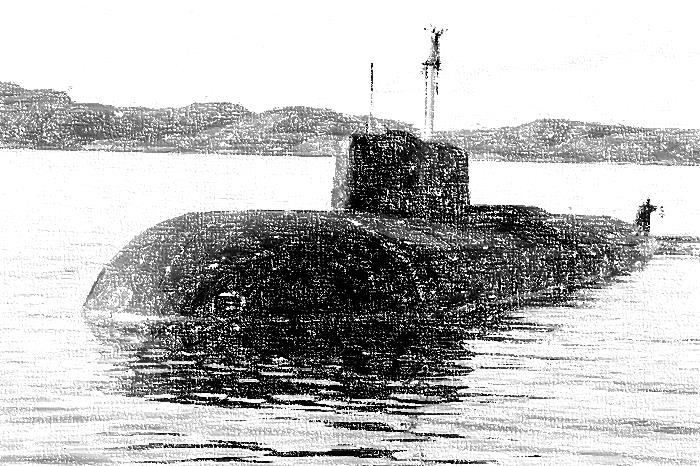
– Первые в 60-ые годы были ленинградские. Так называемое первое поколение турбин – железные
, тяжелые, сложные, с не очень удачными схемами. Потом перешли на второе поколение. Здесь мы уже подключились делать бортовые системы. Затем появилось промежуточное поколение, за которое никто, кроме Калуги, не взялся. Потом – следующие. Наши машины малошумные. Силовые установки легче в несколько раз. Огромная мощность. Быстрый запуск. На прочность испытываем, дай Бог как! Я всегда говорил своим: «Не ломайте лопатки». Мы ведь при испытаниях ломаем все – ищем предел прочности. Рассчитываем его с максимальным запасом. И результат соответствующий. У того же «Дженерал электрик» лопатки на всережимных турбинах ломаются раньше, чем у нас…
– В чём же секрет?
– В том, что мы всегда шли вперёд. Потому что у нас всегда был прогресс. И когда государство говорило: надо делать мощности для вновь вводимых металлургических и химических комбинатов, для ледоколов и подводных лодок. Был этот прогресс и тогда, когда нас стали ругать: мол, рынок на дворе, а вы не то делаете. Ботиночный завод – вот что надо делать. Мы не слушались. Делали мощные турбины. По малым, кстати, тоже ругали: опять, мол, ваше энергосбережение? Что за ерунда? А ничего, делаем – бизнес покупает. Наши разработки приезжали смотреть американцы. Встречаемся. С нашей стороны – 12 новых вариантов техники. Демонстрируем им только физические процессы (техника-то военная) – и уже огромный интерес. Все дело в том, что мы выше их стоим по науке и даже по технике. Значительно выше. У нас такая техника выходит, что американцам порой приходится только локти кусать. В турбинах российский уровень выше, чем на Западе. Западная Европа подводные лодки почти не делает. В основном, американцы. То, что делают французы и англичане, – это мелочь.
– И это несмотря на все кризисы и спады?
– Ну, а мы по-другому просто работать не умеем. Не приучены. Да и научный задел у нас большой. Ведь мы, КБ, всегда на задел работали. На будущее. У нас совершенно разные машины есть. Спектр разработок огромен. Если по 40 лет турбины работают, значит, это как-то характеризует уровень их конструирования, качество науки. Все ведь с кондачка не делается. КТЗ – третья фирма в мире, у которой не ломаются лопатки. Во всем мире ломаются, а у нас – нет.
– Вы их сами конструируете и производите – зачем? Ведь есть специализированные предприятия…
– Лопатки – сами, термодинамику – сами. Все сами. Все до конца. Мы с нуля на корабле работаем, чего никто не делает: ни «Дженерал электрик», ни «Сименс». В итоге американцы свои лодки буксирами швартуют, а ниши ходят так, своим ходом. Только винт повернулся – и вперед… Вообще-то, когда начиналась работа по подлодкам, положение у турбинистов было довольно пикантное: крупные судовые машины делать умели, а малые – нет. Так, кое-как. Мы взяли все это хозяйство на свое рассмотрение, пропустили через лаборатории. Выпустили новую серию. В три раза дешевле получилось, чем у конкурентов. Это еще не силовой агрегат был. Это была автоматика. Но даже гегемоны управления машин были удивлены полученным в Калуге результатом …
Сроку минуло после этого разговора с академиком Кирюхиным – почти два десятка лет. Много воды с тех пор утекло. А с ней – и былых достижений «турбинки». В память об академике Кирюхине сегодня в Калуге назван сквер. Как раз напротив заводской проходной, которую на протяжении полувека пересекал выдающийся ученый. Правда, подхватить академическую эстафету у Кирюхина никому из калужских турбинистов пока не удалось. Да и другим калужским исследователям не удалось тоже. Научная планка Владимиром Ивановичем была поднята довольно высоко. Впрочем, с академических своих вершин единственный калужский академик взирал довольно снисходительно. Если не сказать – иронично. Во всяком случае, главным своим достижением в жизни считал диплом инженера, полученный в трудные послевоенные годы в МЭИ…
Астрофизик Борис Штерн
О столетних изысканиях современной космологии рассказывает внук калужского учителя, известный российский астрофизик, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и астрокосмического центра ФИАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука» Борис Штерн.
«У нас здесь очень красиво. Приезжайте», – сразу же откликнулся на просьбу об интервью известный ученый. «У нас» – это в уютном наукограде Пущино на Оке. Вблизи него Борис Евгеньевич обитает в уютном деревянном домике собственной конструкции с массой хитрых лесенок, веранд, балкончиков, уютных кабинетиков и добродушных собак. Наверху, под самой крышей у окна, – любимое место астрофизика. Маленький стол, два стула, монографии по космологии, ноутбук и морской бинокль. Линзы прибора обращены на живописные приокские дали.
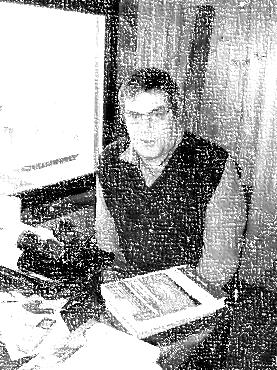
Ока в самом деле обладает аномальным космическим притяжением. Сначала на ее берегах, в Калуге, Циолковский конструировал космонавтику. Здесь же в начале XX века познакомился с молодым калужским учителем Леохновским и заразил того своими звездными мыслями. Мысли эти не пропали даром и резонировали сначала в дочери Леохновского, а затем – и во внуке, ставшем со временем одним из авторитетных российских астрофизиков. Плюс самым ярким из современных подвижников новой космологии.
В своем деревянном домике на Оке, но уже под Пущином, внук «зараженного» космическими мыслями калужского учителя Борис Штерн размышляет о строении Вселенной и пишет захватывающие книги о том, как «всё началось». Причем не только Вселенная, но и современная наука о её происхождении. Начало той, как известно, положил Эйнштейн. Ровно 100 лет назад. Своими изысканиями в общей теории относительности. Потом руку к этому делу приложила масса талантливых российских исследователей: от Александра Фридмана до Андрея Линде и Алексея Старобинского. Ключевую, как выяснилось, роль в этом деле сыграл и Константин Эдуардович Циолковский.
– Борис Евгеньевич, расскажите, как судьба свела вашего деда с Циолковским.
– Мой дед Борис Васильевич Леохновский закончил Московский университет. Причем с золотым дипломом. Но, как это говорят, не на свои деньги. А конкретно – на деньги тестя. Дед был из довольно бедной семьи священников. А тесть – бывший крепостной, после реформы 1861 года разбогател и стал, можно сказать, капиталистом: гончарный завод и все такое… Поэтому после окончания университета дед решил сам зарабатывать деньги и отправился работать в Калугу. Это был 1912 год. По-моему, он преподавал в реальном училище – там же, где и Циолковский. В училище они и познакомились.