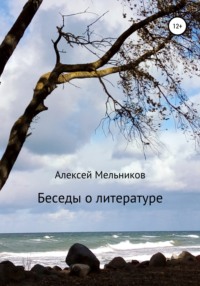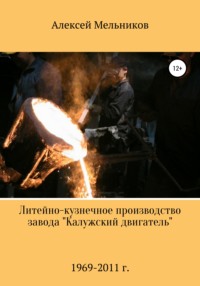Беседы о науке
И вновь ядерные дела – Лейпунскому поручают составить план по изучению проблемы урана. В мире запахло цепной реакцией и бомбой. Вся война – в расчётах. И послевоенный период – тоже. И только в 1949 году стали проклёвываться первые идеи разветвления большого атомного проекта на две дороги: на становившуюся уже более-менее понятной столбовую дорогу «тепловых» реакторов и на абсолютно неизведанный пока, но чертовски заманчивый путь – реакторов «быстрых». И в 1950-м появляется знаменитый доклад АИЛа «Системы на быстрых нейтронах».
– Александр Лейпунский был одним из тех, кто не только разработал, но положил начало коммерческому использованию быстрых реакторов на натриевом теплоносителе, – убеждён академик Евгений Велихов. – И причём не одного реактора, а целой технологической лини, нашедшей своё место в нашей энергетике. Хотя мир здесь не очень-то объединён. В США после ряда аварий направление быстрых реакторов закрыли. Наше положение тут ничем не подорвано. И школа Лейпунского остаётся самой сильной в мире, хотя и пережила нелёгкие для себя десятилетия…
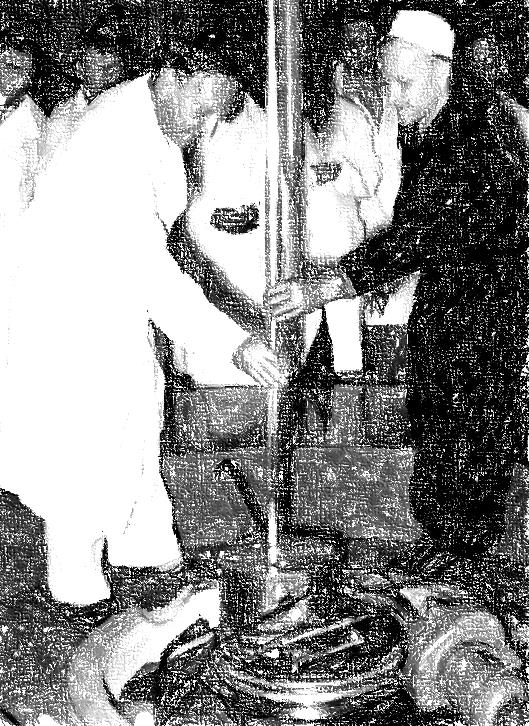
– Мы считаем, что «быстрые» реакторы, разработанные
Лейпунским, к 30-40 годам нынешнего века смогут быть конкурентоспособными с «тепловыми», – высказался членкор РАН Михаил Солонин.
– Я много проработал с Александром Ильичом, – рассказывал автору этих строк последний президент Академии наук СССР Гурий Марчук. – Он был моим оппонентом по докторской диссертации. Создал два мощнейших научных направления: энергетические реакторы на быстрых нейтронах и промежуточные для подводных лодок. Конечно, большой вклад внес и в космическую тематику, и в физику твердого тела. Однако главная заслуга Лейпунского в том, что сумел сколотить в ФЭИ научный коллектив, выполнивший все эти задачи. Что это был за человек? Уникальный. Ведь вы знаете, что его жена – директор математического института на Украине – не захотела с ним ехать в Обнинск. И он жил тут один. Жил и работал. И много, скажу я вам, работал. Москва – Обнинск, Обнинск – Москва. Министерства, смежники, КБ, институты. И, конечно, наука. Короче, заработал первый инфаркт. Слег. Вновь учился ходить. Сначала по 5 шажочков в день, потом – по 10, после уже – по 100. До Белкина стал постепенно прохаживаться – в общем, вернулся в строй. Но через два года – второй инфаркт. И то же самое: постель, первые шаги после болезни, рабочий кабинет. После третьего инфаркта мы уже Александра Ильича потеряли.
Обнинцы и не только они уже который десяток лет мучаются одним неразрешимым вопросом: как умудрились люди, ведомые Лейпунским, черт знает сколько сделать за такой короткий срок? Может быть, эпоха была тогда такая? Особенная. Или люди особые? Нет версии. Те же ТВЭЛы в Союзе делали четыре фирмы. Но почему-то именно обнинская при Лейпунском вырвалась вперед. Не исключаю – по счастливому стечению обстоятельств. Если верить легенде, то вообще все в Обнинске началось опять-таки благодаря его величество случаю.
В 1949 году Александр Ильич Лейпунский, делая опыты, потерял сейф с пробирками радия. Получил взыскание и был отправлен на 101-й километр на берег Протвы. То есть как раз в Обнинск. И перетащил за собой большое количество молодых кулибиных. Возможно, случайность сказалась на том, что именно в Обнинске в те годы был сделан такой мощный научный рывок. Например, если в бытность Лейпунского в ФЭИ (до 1970 года) были разработаны 15 новых комплектов ТВЭЛов (13 из которых пошли в серию), то за все последующие годы институт осилил только три.
– Два события из жизни Лейпунского мне видятся сегодня особенно знаменательными, – рассказывает экс-губернатор Калужской области Валерий Сударенков. – Первое – 33-й год, всемирная конференция по атомному ядру. В числе участников – Жолио Кюри, другие научные светила. В том числе и Лейпунский. Итог – создание комиссии по изучению атомного ядра. Мощный научный толчок. Второе событие – 50-й год, доклад о системах на быстрых нейтронах. Ещё один мощный импульс вперёд. Хотелось, чтобы что-то подобное произошло и сейчас. Чтобы идея подхватилась. Получила второе дыхание…
Говорят, когда Лейпунский был директором Харьковского УФТИ, то не имел даже новой пары ботинок, чтобы идти на приём к министру. Единственные рабочие откровенно «просили каши». И он, поражая своих подчинённых невероятной неприхотливостью, объяснял свою бедность так: «Ничего страшного – на Украине-то тепло». В итоге и впрямь разработал уникальную теорию практически неограниченного получения как тепла, так и электричества.
Кристаллограф Георгий Вульф
Кто-то сказал, что настоящее признание к учёному приходит тогда, когда открытие им формулы и законы начинают писать на футбольных майках. Так было с Пифагором, так было с Ньютоном, или – Эйнштейном, Планком, Менделеевым, да мало ли с кем ещё, кто сумел таким верным способом обессмертить своё имя в науке. Если для химика словосочетание «таблица Менделеева» звучит, как молитва, и готово быть выгравировано на любом мало-мальски подходящем носителе, то с той же степенью придыхания всякий кристаллограф произносит сегодня слова «сетка Вульфа» или «формула Вульфа-Брэгга».

Хотя поначалу, скажем, для нас студентов МИСиС, придыхание это скорее обозначало не безоговорочное поклонение гению автора, придумавшего столь хитрые физико-геометрические конструкции изучения кристаллов, а больше – предэкзаменационное волнение при сдаче зачётов по физике или кристаллографии, где без уверенного верчения в руках сетки Вульфа или бойкого орудования формулой Вульфа-Брэгга нечего было рассчитывать на удовлетворительный результат в зачётке. Так с именем Вульфа человек входил в мир кристаллов – потрясающий по красоте, внушительный по научной глубине, сенсационный по открывающимся в нём неохватным научно-техническим перспективам.
Кто такой Вульф, мы студенты Института Стали, увы, не ведали. Кроме, повторяю, того, что без решения задач по сетке Вульфа кристаллографию не сдашь. А без знания уравнения Вульфа-Брэгга – квантовую физику точно завалишь. Этим наши знания о выдающемся российском учёном, собственно, и ограничивались. Более того, многие из нас, подозреваю, искренне принимали Вульфа за педантичного немца. Ибо только немец, думали мы, мог придумать столь изощрённый в скрупулёзности своей способ вычисления геометрий кристаллов, коим представлялись нам манипуляции с бесчисленными меридианами и параллелями, углами, лучами и отрезками, коими с избытком было нафаршировано изобретение сего на редкость искушённого русского кристаллографа. Мало того – не германца или голландца, а выходца из самых, что ни на есть малороссийских весей, где ещё витал дух великого Гоголя.
Из многодетной образованной учительской семьи – середины 60-х XIX века. Ранние способности к точным наукам. Детство – в Нежине. Гимназия – в Варшаве. Физмат университета – там же. Начало научной карьеры и первое очарование миром кристаллов – опять же в пока ещё форматированных на российский лад далёких варшавских весях. Интересно, что именно здесь в Польше, и в том числе – Варшаве несколько десятилетий спустя заявит о себе другой великий кудесник кристаллов – Ян Чохральский. Если на долю Георгия Вульфа выпадет роль теоретика, вычислителя и систематизатора кристаллических многообразий, то Ян Чохральский одарит мир уникальным способом искусственного получения самых ходовых на сегодняшний день видов кристаллов – полупроводников. Без них, этих самых кристаллов кремния, германия и арсенида галлия, выращенных по методу Чохральского, не состоялась бы вся мировая электроника.
Этот «варшавский тандем» великих, хотя и не знакомых друг с другом, кристаллографов-кристаллофизиков (не всеми, кстати, и не всегда до конца осознаваемый) был на самом деле куда более богатым и на другие удивительные совпадения. Скажем, жёны того и другого – Маргерит Хаасе и Вера Якунчикова – были пианистками. В обеих семьях постоянно звучала музыка, и собирались люди искусства. Кристаллограф Георгий Вульф пел баритоном оперные партии в домашнем театре на даче в Тарусе. Кристаллофизик Ян Чохральский декламировал стихи собственного сочинения в своём имении в Кцыне. И там, и там боготворилась живопись. Чохральский удивлял варшавскую богему коллекцией изысканных пейзажей выдающихся мастеров. Вульф сам купался в ауре величайшего русского пейзажиста Василия Поленова, будучи его свояком и многолетним соседом по тарусским предместьям.
Не знаю, чего было больше в Георгии Вульфе – страсти к научному поиску или желания заразить этим увлечением окружающих. Всю свою жизнь Вульф совмещал напряжённую научную работу с не менее насыщенной деятельностью просветителя. Лекции, научные эксперименты, доклады, диссертации в Варшавском, Петербургском, Казанском, Московском университетах, в университетах Мюнхена и Парижа перемежались десятками научно-популярных статей в журналах «Природа», «Успехи физических наук», в доступных для понимания неискушённой публики книгах. Цель каждой – пробудить в читателях интерес к знанию.
Просветительская деятельность Георгия Вульфа, как и его жены Веры Якунчиковой, в полной мере проявилась в маленькой симпатичной Тарусе, куда, выдающегося русского учёного, судя по всему, однажды заманил не менее выдающийся русский живописец. На правах, так сказать, близкого родства. Хотя Вульф с Поленовым на тарусские пленэры вместе не ходили, но в одной опере участвовали: Василий Поленов сочинял музыку, а Георгий Вульф под аккомпанемент своей жены Веры и её сестры – Натальи Поленовой – демонстрировал в ней свой сочный баритон. И всё – в учреждённом на собственные средства в маленьком городке на Оке народном театре. Он же – тарусский народный дом, прибежище народного просвещения, ставший накануне и после революции для выдающегося учёного, и его супруги, вроде как, утомлённых столичной суетой, не просто очередным хобби, а настоящим служением.
Тарусская, чисто просветительская, история выдающегося кристаллографа Георгия Вульфа оказалась не менее плодотворной и поучительной, нежели чисто научная. В самый разгар Первой мировой он пишет в городскую думу: «Город Таруса в борьбе с пьянством был в первых рядах – он неоднократно ходатайствовал о запрещении спиртных напитков навсегда. Большой прилив силы почувствовал русский народ, порвав с пьянством, но надо постараться закрепить и использовать победу над водкой, а для этого необходимо дать народу возможность употребить свой досуг на полезные и разумные развлечения и на поучительные занятия».
Уже в самые несносные постреволюционные годы увенчанный многими научными лаврами исследователь, член-корреспондент, президент физического общества страны, сподвижник Вернадского каждые выходные отправляется на поезде в сторону Серпухова. Идет с него по 15 километров с рюкзаком на плечах до дома в Тарусе. Там его ждёт семья. Там его ждут люди. Самые простые, которым этот выдающийся человек должен донести свет знаний и очарование культурой.
Он будет отмерять эти километры и после того, как в 1923-ем навсегда покинет его любимая жена Вера. Потому что не сможет изменить памяти о ней, их общему делу. Будет сражаться за сохранение в маленькой Тарусе созданного ими очага просвещения. Будет бороться до самого конца, покуда в 1925 году на Тарусском кладбище рядом со скромным памятником Вере Якунчиковой не появится ещё один – её верного спутника Георгия Вульфа.
Философ Всеволод Катагощин
До него настоящих антикоммунистов я видел только в кино. Скажем, свирепо размахивающего косой в направлении коллективизации Ивана Лапикова. Помните – в бессмертном фильме «Председатель», где великий Михаил Ульянов растрогано мнёт кепку и со слезами на глазах горячо зовёт: «И чтоб – до коммунизма!» Или – Петра Глебова в образе врага народа в экранизации шолоховской «Поднятой целины». В иных, чрезвычайно идейных и не столь высокохудожественных творениях советской эпохи.
Калужский философ и идейный антикоммунист Всеволод Катагощин не походил ни на одно из экранных воплощений своего alter ego. Щуплый, седенький, маленького роста. Впервые увидел я его уже довольно пожилым и с виду не совсем здоровым. Немного вытянутое вперёд лицо, несущее на себе печать одной, мучающей человека на протяжении многих лет, большой, неизлечимой мысли.
Мысль эта сразу давала о себе знать при первом же рукопожатии с подпольным калужским философом. Катагощин тут же выпускал её на волю и горячо, едва переводя дух, начинал разматывать клубок своих антитоталитарных размышлений. Иные у Всеволода Всеволодовича оставались на задворках. До времени. Главенствовал антикоммунизм. Попытки спасти репутацию коммунистического эксперимента в российской транскрипции вызывали у Катагощина бурный протест, выливающийся в обширные публицистические спитчи.

При первой (и, увы, последней) встрече в 2003 году мне сразу показалось, что в этом чрезвычайно щуплом теле жизненные соки подпитываются исключительно борьбой с тоталитарной системой. Разоблачением её античеловеческой сути. Отключи её, эту систему, и Катагощин умрёт, лишённый смысла жизни.
Так и произошло: к 2008-м страна начала бракоразводный процесс с коммунистическим прошлым (увенчанный в той же Калуге в 2017-ом ночным перетаскиванием памятника Ленину от обладминистрации с глаз долой, в тенистый парк), в этом же году не стало и наиболее бескомпромиссного калужского борца с этим самым прошлым. Катагощин умер, коммунизм – почти, между тем тоталитаризм в стране пошёл новыми всходами. Уже не коммунистический.
«Ни в старых диктаторов не верю, ни в нынешних, – провидчески предугадывал очередной, теперь уже посткоммунистический накат самодержавия Всеволод Всеволодович. – Может быть, в глубине души они и убеждают нас в том, что действуют из любви к людям, но это в лучшем случае самообман. В основе, скорее всего, ими же (диктаторами) не осознаваемое самоутверждение».
В 2003-ем мне указали на его квартиру в одной из старых калужских пятиэтажек на улице Глаголева. Я нашёл Катагощина в довольно бедной обстановке: потёртый диван, старые шкафы, скромный, не обращающий внимания на бедность, обитатель. Как выяснилось, кадровый архивист и страшный вольнодумец. Диплом Московского историко-архивного института конца 50-х. Вольнодумные столичные кружки. Высылка в Калужскую губернию. Работа в облархиве. В кочегарке. Небольшой, но сплочённый кружок совестливых антисоветских смутьянов конца 70-х. Точнее даже не кружок, а минидиссидентская ось Москва-Калуга. В промежутке – Обнинск.
Естественно, повышенное внимание местных органов КГБ, которым, впрочем, Катагощин в ходе встречи вовсе не бравировал. Как и не признался, что к философскому пульсу, пробившемуся в ту пору непонятно с какой стати в сонно-купеческой Калуге, прислушивался даже сам Андропов. Но сажать не велел. Хотя с соседом катагощинского кружка по диссидентству, обнинским учёным Жоресом Медведевым, распорядился жестче: отправил «на лечение» в Калужский дурдом. «Я старый демократ», – так, впрочем, коротко рекомендовал себя при первом разговоре вечно неудобный режиму Катагощин.
При всей неспособности рождать собственную свободолюбивую мысль Калуга (больше частью вынужденно) дала приют немалому количеству советских нонкомформистов. В иных случаях этот «приют» оказывался зарешёчен, в иных – нет. Иногда: и так, и эдак – поочередно. В Калуге почему-то особенно любили судить диссидентов, приговаривать к различным срокам, сюда их ссылали, привозили и прятали в областную психбольницу, в Калугу же некоторые из них потом возвращались сами, а были даже случаи (как, например, с Андреем Сахаровым и Еленой Боннэр) – диссиденты на калужских судилищах обретали свою любовь и намечали свадьбы.
Но об этом в Калуге вспоминать не принято. И вы вряд ли найдёте на тех зданиях, где, скажем, коротал время Нобелевский лауреат Андрей Сахаров, хотя бы намёк упоминания о нём. Или признаки многолетнего присутствия в Калуге ещё одного вольнодумца – писателя Юлия Даниэля. После приговора и тюрьмы он в начале 70-х поселился здесь, в Калуге, где-то на улице Московской (вряд ли кто сегодня сможет точно указать этот адрес). И тут же постучался в дверь своего старого знакомца по московским диспутам – Всеволода Катагощина. Тот усердно кочегарил и не менее горячо проповедовал на калужских кухнях запрещённые в ту пору христианско-демократические ценности. Попутно клеймил сталинизм и ужасы ГУЛАГа.
Даниэль, несколько лет пожив в Калуге и дождавшись, когда шум вокруг дела Синявского и Даниэля пойдёт на убыль, перебрался-таки в столицу. Катогощин остался философствовать о предназначении человека здесь. Впрочем, пребывая по-прежнему незаметным для широкого глаза и неслышимым для широкого уха. Отмечался редкими публикациями в журналах РХД, ещё менее назойливыми мельканиями в местных диспутах. Всякий раз, впрочем, вызывая ропот калужского официоза своим неприятием тоталитаризма в любом обличье, какое бы тот ни принимал, прячась за самые популистские декорации.
Непреклонный Катагощин умудрился снискать своим упрямым антикоммунизмом оппонентов даже в среде местных демократов, не так остро, как он реагирующих даже на малейшие проявления чуждой Всеволоду Всеволодовичу идеологии. Оную тот отыскал в изобилии в творчестве Маяковского, на которого Катагощин как-то яростно ополчился в местной прессе, обвинив пролетарского поэта в «удивительной сопротивляемости» всем постсоветским попыткам сбросить его с пьедестала классической литературы. «А ведь мы порой имеем дело с весьма тёмными фигурами, – сетовал Катагощин. – И одна из этих фигур, безусловно, Маяковский».
Ни могучий литературный талант последнего, ни его ранний, гениальный, по сути, период творчества – ничто не могло искупить в глазах Всеволода Всеволодовича грех трибуна революции, закрутившего роман с большевизмом. И Катагощин бросает в среду калужских почитателей автора «Облака в штанах» перчатку ненависти к гению, дерзко копируя бунинскую желчь, выпущенную будущим Нобелевским лауреатом в адрес «агитатора, горлана, главаря»: «Ненавидеть Маяковского – значит делать ему много чести».
Катагощин всегда был бескомпромиссным идейно. Даже в диссидентствующей братии выглядел радикалом. Не смог (или не захотел?) из своего призвания – антикоммунизма – сделать в постсоветские времена какую-никакую карьеру. Оставался нонкомформистом даже тогда, когда многие из его однокашников по антисоветизму смогли в капиталистической России расслабиться и зажить. В конце 90-х и в начале 2000-х тусовки экс-диссидентов и радикал-демократов могли похвастаться щедрыми банкетами с красной икрой и коллекционными винами. На первых Ходорковских чтениях, помню я, как подошёл к ведущему одной из секций Александру Даниэлю и поинтересовался, помнить ли он калужского знакомца их семьи Катагощина. «А, Сева! Ну, конечно. Как он там?» Ответ Александр Юльевич дослушать не успел – отвлекли важные гости.
О Катагощине в Калуге твёрдо забыли. Похоже, что с облегчением. Мещанский город никогда не тяготел к вольнодумцам. К демократам. Всячески сторонится он их и сейчас. Особенно, когда пришла пора взывать к новым самодержцам. Коммунистические уступили место имперским. Свободу вновь разменяли. На этот раз – на скипетр и державу. Конечно, во имя счастья подданных. «Нет страшней позиции, – твердил непреклонный калужский философ-диссидент Всеволод Катагощин, – чем вытаптывать свободу человека во имя его же блага. Это – тупик. Мы в нём уже были».
Физик Александр Дерягин

У него было что-то от Ломоносова: родная глухомань где-то на краю Архангельской земли, бедная отцовская изба с вымораживаемыми по зиме тараканами, ранняя жадность до всевозможных книг и отважное паломничество юного крестьянского самоучки до советских научных мекк – сначала Ленинграда, а затем Свердловска.
К 40 годам многообещающий ломоносовский земляк Александр Дерягин становится одним из самых авторитетных в Союзе корифеев в области физики редкоземельных магнитов, доктором физ.-мат. наук. Его примечают в министерстве электронной промышленности СССР и в начале 80-х рекомендуют возглавить соответствующее научное направление в сооружаемом в Калуге центре электронного материаловедения «Гранат» – этаком ответе советской электроники на Силиконовую долину, кующую компьютерную мощь США.
Взятый Дерягиным научный темп к началу 90-х привёл его в Академию наук в ранге члена-корреспондента по отделению общей физики и астрономии, параллельно – в Верховный Совет РФ в качестве председателя Комитета по науке и народному образованию, наконец, – в кресло первого постсоветского губернатора Калужской области.
Были ли до него в России губернаторы с классическими академическими регалиями физика-теоретика – сказать трудно. Есть подозрение, что Александр Дерягин был первым. А год вступления его на губернаторский пост – 1991-й – говорит ещё и о том, что талантливый физик был брошен на расстрельный по сути пост: управлять тем, что в какой-то момент времени в России было неуправляемым в принципе – региональным хозяйством. Талоны на мыло, талоны на сахар, на водку и даже в некоторых районах Калужской области – талоны на хлеб.
Бывшая местная партноменклатура рада была списать характерные проявления общекоматозного состояния российской экономики на бюрократическую неискушенность, научную заумь и излишний либерализм нового главы региона. А тот, забросив свою любимую квантовую физику, должен был теперь начинать свой рабочий день с главной для областного центра на тот момент проблемы – контроля длины очереди за водкой в главном универмаге города «Звёздный». Удлиняется хвост – стало быть, социально-экономическая стабильность в регионе под угрозой. Сокращается – можно перевести дух и заняться реальной экономикой. Правда, всякий раз при удобном случае перемежая её с любимой физикой.
Как-то на открытии в середине 90-х в городе Кирове первого по сути в области предприятия с иностранным инвестированием – молочного завода, построенного по линии фонда «Калуга-Швейцария» – губернатор Дерягин искренне восхищался не столько щедростью западных инвесторов, сколько … качеством сварных швов в молочных емкостях и молокопроводах, установленных на новом предприятии. Очевидно, талантливому физику и инженеру Дерягину было ясно, что о высоком качестве экономики при косо сваренных трубах говорить бессмысленно. Поэтому он в разговорах с непривыкшими к такого рода нотациям областными начальниками начинал «плясать от печки».
На его еженедельные планёрки в областном правительстве мы, калужские журналисты, ходили, как во МХАТ. Точно на царившего незадолго до того в Художественном театре Смоктуновского: фантастически талантливого, умного, пронзительного, временами едкого, но всегда открытого и честного профессионала. В расстегнутом пиджаке, упёршись руками в пояс, Дерягин метался по залу облправительства, всякий раз горячо и по существу обсуждая очередную тему заседания. И всякий раз поднимаясь над ней гораздо выше, чем то было предусмотрено в ранее утвержденной повестке дня. А именно: философски осмысливая любое, даже самое ординарное постановление. Впрочем, вся эта циркулярная возня была второстепенной в деятельности губернатора Дерягина. Ключевой задачей было – выстоять в кризисный тайфун 90-х. А может и еще сложней – принять на себя удар ответственности за его разрушительные последствия. Не потому, что ты виноват, а потому, что некому больше.
Дерягин был не похож на настоящего чиновника. Того, как известно, отличает взгляд не «на», а «сквозь». Холодный такой, стальной зырк сквозь всякого, кто ненароком попадается высокому российскому начальнику на его пути. Прожиганию глазами «лишних» похоже сегодня даже учат восходящих звёзд провинциальной политики. Те делают большие успехи в сих царедворских премудростях, в коих первый калужский губернатор был абсолютно не искушён. Неискушённость эта губернатора-физика в общем-то впоследствии и сгубила. Когда уже его самого, так и не научившегося «жечь глазами холопов», в 1996 году прожгли, но уже в президентской администрации. Не привыкший к навязываемой ему холопьей роли, гордый Дерягин послал всех к чёрту, хлопнул дверью и вернулся в науку. Точнее – в то, что от неё осталось.
В период своего пятилетнего губернаторства Александр Дерягин пережил одну из самых своих тяжёлых профессиональных драм – крушение российской электроники, под обломками которой было погребено и его родное ПО «Гранат». «Что Вы об этом думаете?» – опрометчиво спросил я как-то Александра Васильевича на пресс-конференции. Сразу почувствовал, что Дерягин вот-вот заплачет, и уже проклял себя за нетактичность. Тот какое-то время помолчал и, следуя своему неукоснительному правилу – честно отвечать на любые вопросы прессы, – печально глянув, начал неизбежный и мучительный для себя комментарий со слов «Вот, взял и расковырял самую больную в душе болячку …»