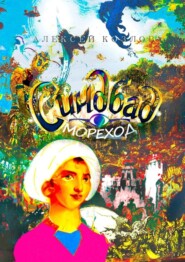По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Городъ Нежнотраховъ, Большая Дворянская, Ferflucht Platz
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кол с казнёным уцелел!
О как!
Английская народная поэзия! Цинизм народа – есть его вера и спасение! А вы знаете… Но вернёмся к нашему повествованию, ибо несть числа препон ему, но мало помощи отовсюду!
Они были простыми обывателями и не желали для себя такой беды. Они всегда желали всегда беды своим соседям, но себе беды никогда не желали. А тут случилось такое, что навсегда поколебало непоколебимые устои их жизни. Жёлтая ревущая струя не пощадила никого. Митрич, зацепившись штанами за трубу, долго висел, и уже надеялся на спасение, но раз уж полез в картман, за размокшим табаком, то сорвался с трубы и с воем канул в ревущей воде. А ведь он был лчностью не простой – стратель земли гнилоурской, герой Фиглелэнда! Женщины, дети, старики, аксакалы – никого не минула чаша сия – все погибли в мутном горячем потоке. Захохотал великан хохотом громким, ахитаковым, солнцу лапы раскрыл, завыл аспидно и отвязно, веселилось его зловещее сердце, истомой истекало. А потом бегал среди потока и вылавливал конечностью уцелевших. И шмякал их о землю, и сжималось от него сердце настоящего патриота Афанасия Петровича Ривкина, стоявшего на инвалидной ноге у полосатой будки при входе в город. Шмяк! Шмяк! Шмяк! Неприятный то был звук, словно стеклом по пиле.
Таково было кровавое возмездие провидения городу за былые грехи его жителей, плата за безбожные происки и революционные позывы народных масс. Все оставшиеся в живых были в шоке и молили грозного великана ради бога остановиться, уйти и помиловать великий степной город…
На что безжалостный великан ответил только свирепой икотой и могучим рыком, снёсшим вековые дубовые рощи на дальних меловых горах.
Походив по разгромленному городу и не найдя уцелевших, великан тягостно вздохнул и удалился из города.
В детстве мать великана чудовищная красавица Нисполет Нильская в корчёванной столешнице возила своего сына в Такейский Ерузолим, поэтому он, хоть и любил человечину, но был на самом деле удивительно набожным существом. У великана была любимая книга «Латунная Пиплия из Раковниц», неизменно сопровождавшая его во всех подвигах и проделках. Она весила без малого сорок тонн и была сделана в Пенджабе величайшим индийским мастером Гуром Шрахаривишной Ботуэлем Третьим из мюнхенской броневой стали, колокольной афганской бронзы и толстого жёлтого пергамента, происхождение которого навсегда осталось загадкой. Толщиной она была с приличный трейлер, но на поверку всё же меньше чем знаменитая Тароттиева Скала. Двести лет семнадцать лучших Венских каллиграфов, соблюдая удивительную преемственность стиля, без устали наносили святые чернёные буквы и золотоносные рисунки, чья удивительная грация в дальнейшем покорила даже графа Дракулу, искусствоведческая капризность которого была широко известна за пределами Богемии и даже докатилась до вечного Нежнотрахова. Как я уже говорил, переплёт книги представлял из себя глубокий барельеф из нержавеющей крупповской стали изящной работы. Ярусами, ниспадая снизу вверх, как в безграничном японском комиксе, изображались все события, описанные как в Ветхом и Среднем, так и в Новом Завете и доходившие до времён Покемона. Выполненные с невиданной живостью и красотой, они были столь совершенны, что человек мог часами, как зачарованный, не отрываясь смотреть на это чудо, не испытывая ни усталости, ни разочарования, явлений обычных при долгом чтении. Великан не часто брал в руки священную книгу, ибо времени на это занятие у него было чрезвычайно мало. Основную часть своей жизни он тратил на поиски пропитания и женщин, которые потом тоже становились пропитанием. Иногда, видя нечестие этого мира и всё возрастающие толпы неверующих, окружающих его, великан впадал в неистовую ярость, хватал свою волшебную «Пиплею» и начинал молотить ею по нечестивым гражданам.
– Угагагаааа! Бу-угагагаааа! – слышалось тогда повсюду, – Бу-угагагаааа!
За раз он мог убить Пиплией одного африканского слона, до сорока полностью вооружённых конных латников-кнехтов, семерых легковооружённых аркебузиров-недомерков, до восьмидесяти крысоподобных католических кюре, трёх смачно-мясистых православных попов, двух зазевавшихся старух-сорок, до восьмидесяти пяти тысяч крыс, до двух миллионов восемьсот шестидесяти двух тысяч четыреста шестисот двадцати двух тараканов и до семисот тысяч прекрасно откормленных в казармах Шванмбургских мандавошек. Таким образом, он отправлял их своим мечом прямо в рай, куда они и стремились, по мнению отцов святой церкви! Этим делом, как ни парадоксально, он и занялся в очередной раз под Петров День. Сметая свежий дёрн, он вылез из самого нутра Чижовского Ската, в фетровой шляпе размером с приличный стадион, розовой душегрейке и тяжёлых жёлтых башмаках их бегемотьей кожи, измазался по пути глиной, разъярился, и пока карабкался на залитый свежей травой склон улицы Лиговой, содрал лапой два дома, как все считали, классической архитектуры. А потом пошёл долбать конечностями по всем городским святыням. Все были в шоке! Разбегавшиеся жители увидели воочию, как великан, высоко подъяв над головой великую книгу, бегал по Большой Дворянской в белых польских кальсонах с криком: «Господи! Помоги мне просветить этих заблудших гадов и скотов! Помоги мне, господи!» и молотил, молотил, молотил. Как ни странно в тот чудовищныйм день из десяти тысяч прибитых святой книги, обнаружилось, что почти все прибитые – мужчины. Самки понимали всё грамотно и заслышав первый удар переплётом по городской мостовой, тут же впрыгнули вместе со спиногрызами в подвал и канализационные проломы.
Горох был истоптан, сечка поваплена, сладкая гнилоурская репа- предмет гордости горожан и основной объект экспорта в заморские страны – ушла в землю по самую свою колокольную выю. Не ползли больше по полям вкусные, перелётные рыбы-угры, похожие на змей. Не летели белые лебеди, сладкие как мёд. Ушли в небытие лесные кабаны-скрижальщики, столь вкусные, что охота на них была повсеместной забавой. Последне хрю-хрю вам в след, праздные господни дети! Ящур покосил коней и быков всего края. Восплакались девы чудные! Ор стоял кипешный! Что осталось родной земле, что превиделось? Дело трудное, праздношлатное!
Всё как назло произошло таким образом, что нигде не было больше еды в нашем плодородном крае, и настал великий голод, и настал, невиданный в том благословенном краю. И настал.
Первым голод почувствовал святой человек, ветхий бутылочный пустырник Викентий Ладожский, живший при лаборатории Пратинского Универсиума в огромной стеклянной колбе без этикетки. За все спокойные годы жизни в колбе, он постепенно от скитаний с клюкой и сумой по большим имперским дорогам, навсегда насытил свой желудок, успокоился, перестал думать о превратностях судьбы, забыл о поисках своего угла и мечты о верном куске хлеба счёл уже малозначительными мелочами. Всё у него было так хорошо, что и жена не потребовалась. Как сложилась бы его жизнь, не будь этого голодомора, мы не знаем! Сложно по жизни стать пустырником, сколько всего нужно знать, но ещё сложнее надыбать такую колбу, какая была у него, старую, с накипью загадочных химических процессов. Это было национальное достояние Фиглелэнда – человек в огромной бутылке – и его всегда чрез горлышко кормили отменно: сечкой и вялеными овечьми кишками. Так как приспособлений, обеспечивавших жизнь святого, было очень много, и все они были очень сложны, его стеклянная келья была похожа одновременно на лабораторию алхимика и тренажёр космонавта. Даже во времена великиих народных бедствий его кормили до одури, зная насколько пронзителен его тяжёлый сутенёрский взгляд и голос.
Однако на этот раз всё оказалось гораздо хуже, чем мог предположить бутылочный человек.
На сей раз кормить его перестали сразу. Не было ни завтрика с печёной маковой булочкой, ни обеда с сытной гречишной кашей, ни полдника с яблочным повидлом на галете. Никто, совсем никто не открыл вход и не пришёл к нему.
Первый день, когда никто к нему не пришёл, он не понял ничего. Он подумал, что то ли прислуга заболела, то ли ошибся кто, и всё ещё исправится к общему благу. На второй день к вечеру, опять не дождавшись никого, Пустырник заметался по колбе в лёгком и понятном нам смущении. Но и тогда в его душе жила уверенность в благополучном разрешении досадной случайности. На третий день одиночества его лицо вытянулось и побледнело, а глаза впервые за последние десятилетия приобрели осмысленное выражение. Он понял, что никто никогда не придёт, кормить его больше не будут, предоставив эту высокую прерогативу Богу! На Бога он, разумеется, надеялся, но сам, как оказалось, оплошал!
Перед бутылочным столпником стал выбор – умереть ради науки в колбе, или жить на свободе? Выбор был нелёгкий, ибо за годы великого сидения, бутылочник стал по-профессорски умён.
Спас его от голодной смерти, надо сказать, всё-таки сам вампир, и спас при помощи своей всепроникающей книги Пиплии – в злобе он разбил бутыль, разбросал отовсюду тонные осколки и таким образом случайно выпустил из неё исхудалого святого человека.
Первые часы после освобождения бутылочный человек был тих и скорбен. А потом разошёлся, размялся, огляделся, взял из лабораторной кладовки старый тюристический рюкзак, и ушёл по Старо-Владимирскому тракту искать свою любовь и место в жизни.
Так, как делали во все века его предки.
Звали святого бутылочника по традиции Иван Заяц, а не Фаул Дитрих, как было на этикетке, и пусть теперь он навсегда войдёт в историю под своей натуральной фамилией!
Точно так же, как прозелитическая святая блудница Наташа Петербургская, обрётшая новое.
Все святые сошли со столпов, все монахи кинулись в леса и на поляны за грибами. Их имена здесь и никто не сможет отрицать точности приведённого здесь списка:
1. Сибурдон Армейский.
2. Вардипуль Барменский.
3. Мошгир Вошкинский.
4. Драгвор Гомнодавский.
5. Масдик Двитул.
6. Жопасолизус Елагинский.
7. Цебрюханоль Жабер.
8. Сынанос Замоскворецкой.
9. Гом Ипкин.
10. Вепродрагомилус Короед.
11. Педероглус Лативецс.
12. Вульвасос Мамин Сын.
13.Глазнажоп Натянул.
14. Марчи Трахай Ярче.
За эрой столпников и рачителей амбры последовали времена великих княжеских поборов и карательных походов на недоимщиков. Походы, организованные на деньги самих князей перемежались набегами нанятых князьями степняков, «зело нагонявших страху на толпы смердоусов».
Княжескому произволу не поддалось только племя фалосичей, доведённое княжеским произволом поистине до градуса сумасшествия сионских мудрецов. Племя регулярно ходило в пустыню, выделило из себя парочку недурственных столпников-архитрахиев и дюжину пророков, испражнявшихся карминным мумиём и благородной диванной камедью. Племя довольно быстро переняло основные средиземноморские забавы и по субботам распинало на Корявом Дубе зараз до сотни воров и разбойников, не забывая оплакивать их потерянные души. Однако в один из дней из Византии прилетел бородатый ангел в белом смокинге и властно повелел повторно окрестить всю честную братию, взиравшую на него теперь сквозь шели в землянках и бойницы в башнях.
Кенязья Самуйло и Горгун, не требуя подтверждений, сразу бросились исполнять команду, и рубили до тех пор, пока кто-то не сказал им, что из-за груды тел более не видно нигде бородатого ангела с кадилом и фамой. Тогда они остановились и перевели дух. А ангел, орудовавший именем Покемоницы Пражской, на шёлковых крыльях больше не прилетал. Говорят, что некто неизвестный слышал последние слова въедливого ангела, и вот что он якобы сказал:
«Братия! Почему эти скоты не ходят в блаженную церковь? Неужели же им безразлично слово Божие, настоенное на высоких травах Нового Иеруссалима, неужели же простые и кристально чистые слова Христа застревают в их душах, не доходя в глубь? Как, отчего опустилась планка за последние годы? Скажите мне!»
Молчание было ему ответом.
Потом в городе начались нежданные, лютые пожары, или точнее говоря – народные поджоги. Все знали, что здесь, в Нежнотрахове жили нервные, быстрые на расправу люди, не терпевшие ни в чём недостатка, поэтому, когда pi…dets наставал, они жгли всё подряд, не чувствуя ни усталости, ни раскаянья. Не могла вынести их поэтическая душа опыта – сына ошибок трудных и позора мелочных обид. Они поднимали сразу в тумане моря голубого свой белый парус и горделивой рукой вели корабль сквозь штормы эпохи. Хлопотливыми буревестниками они летали над бурливым океаном, оглашая влажную стихию резкими криками. Не давала им покоя и мечта о Времени Роз, омытая слезами справедливого фюрера.
Сначала загорелись заповедные леса с болотными зубрами и бобрами, которые поджечь довольно просто. Следом к неудовольствию праволавных пановей сгорела деревянная церковь Лавра и Фрола, в которой был единственный в Фиглелэнда удивительный пластилиновый иконостас с ликом святой Доры Изауры Сконапельской. Потом настал черёд и других объектов народного хозяйства. Сгорела основная городская баня вместе с безухими сильфидами на скромном деревянном фронтоне и уникальной коллекцией резных оловянных шаек, завещанных местному краеведческому музею. Сгорел ресторан «Триада» – центр провинциального дубового джаза, где играл на рояле знаменитый джазист Буми Шпильвзад. И, наконец, сгорело стометровое вращаюшееся фалафельное изобретение – чучело богатура Сырдара – девятое чудо света, на которое восемь лет денно и нощно отводились спасённые от бюджета деньги. Его строили на въезде в город из привозного сионского фалафеля для разгона гигантских вороньих стай, тревоживших акваторию Нежнотрахова. Много сгорело в тот год в Нежнотрахове. Архи много. Так много, что сердце готово облиться кровью!
К сожалению, не догорела и почти вся уцелела едрёная Поломоньевская библиотека имени Сароса – сборище народного бреда и помутнения. Вся ересь в этом собрании была сохранена благодаря энергии заведующей библиотекой молоденькой Ирой Кряккиевской и зрелой выдатчицей Диной Друбичич. Все в копоти, грязи, зачуханные донельзя, шепча молитлы, они вытащили завёрнутые в полосатую матрацную ткань «Коцаную Нюрнбергскую Тору», чудом уцелевший в Маазельской битве заповедный труд Лапездана Поплина «Обрезание и Договорная Справедливость», книгу Фрая Спициона «Тфилин Аршинного Гура» и самое редчайшее сочинение неандертальского анарейства – чудом, да, каким-то чудом сохранённую в наполеоновский кавардаш сверкающую жемчужину илудаизма – «Чудные Луспекайские Пекари и великий братан Моксей» в двух десятикнижиях. Они были так горды спасением бесценных святынь, что тут же забыли их на паперти, вследствие чего всё новообретённое потрясающее собрание снова и на сей раз навсегда, было утеряно, перекочевало в нечистые карманы, пропало, пущенное на самокрутки и подмётные письма прихожан. Впрочем пострадали не только мощные культурные центры Нежнотрахова. Лучший в городе «Королевский Гандикап» с породистыми беговыми тараканами Мартой, Филом и Парамошкой, примыкавший углом к Поломоньевке, тоже начисто выгорел.
Народ улюлюкал неистово, бранспойты били напропалую, ветряки полыхали вовсю, бедняки, видя бедствие богатых и ущемление прав состоятельных, радовались неслыханно. Но и их не обошла чаша сия – обойдя пожар по ветру, многих закирдычников великан с криком «Фильтруй базар, суки!» подавил, дабы больше они не шумели.
Это был второй великан, явившийся без приглашения в древний город.
Хоть бич божий и был вампиром, ему не было чуждо ничто человеческое. Он маялся своими дерзкими подвигами и прогибался под весом своего Авторитета. Ему надоели мерзкие козявки, разбегавшиеся с противным писком из-под его ног, надоели их дикие нравы, надоел этот халтурный город, больше походящий на свалку, с его продавленными мостовыми и кривыми пожарными вышками, надоело всё. И он бродил по холмам, весь нахмурившись – живое воплощение Печали, бродил одиноко, не зная чем себя занять. И бил всё, что попадало под руку, и громил, и топтал, приговаривая: «Так надо, Мио Мадонна! Так надо! Es mortus non Coitus! Пришедшие восплачутся, а отошедшим привет!!»
Его слова воспринимали со вниманием. Так назарейским прозелитам в пустыне слышался скрижальный голос, как казалось, нёсший надежду.
Потом великан уморился, ушёл великими шагами в камерную угольную Марракотову степь, чтобы там, посреди топких мшаников Терпигорья, среди безлесых и пустынных холмов Жлобовонья в середу раскинуть великие клешни свои, упасть на зумь каинову огненным шаром и, всему вопреки, прокатившись вересковой пустошью, замереть у отрогов Катькиных пригорков, чтобы тут же заснуть бодрящим тысячелетним сном идиота. Ни кровавые походы Атиллы, ни ласковые песни Ренессанса, да простят меня читатели за это слово, ни жёлтый, хитромудрый плескун Чингиз-хан с его полумиллионной армией не взволновали его, не пробудили его изрядно дремлющего самосознания.
О как!
Английская народная поэзия! Цинизм народа – есть его вера и спасение! А вы знаете… Но вернёмся к нашему повествованию, ибо несть числа препон ему, но мало помощи отовсюду!
Они были простыми обывателями и не желали для себя такой беды. Они всегда желали всегда беды своим соседям, но себе беды никогда не желали. А тут случилось такое, что навсегда поколебало непоколебимые устои их жизни. Жёлтая ревущая струя не пощадила никого. Митрич, зацепившись штанами за трубу, долго висел, и уже надеялся на спасение, но раз уж полез в картман, за размокшим табаком, то сорвался с трубы и с воем канул в ревущей воде. А ведь он был лчностью не простой – стратель земли гнилоурской, герой Фиглелэнда! Женщины, дети, старики, аксакалы – никого не минула чаша сия – все погибли в мутном горячем потоке. Захохотал великан хохотом громким, ахитаковым, солнцу лапы раскрыл, завыл аспидно и отвязно, веселилось его зловещее сердце, истомой истекало. А потом бегал среди потока и вылавливал конечностью уцелевших. И шмякал их о землю, и сжималось от него сердце настоящего патриота Афанасия Петровича Ривкина, стоявшего на инвалидной ноге у полосатой будки при входе в город. Шмяк! Шмяк! Шмяк! Неприятный то был звук, словно стеклом по пиле.
Таково было кровавое возмездие провидения городу за былые грехи его жителей, плата за безбожные происки и революционные позывы народных масс. Все оставшиеся в живых были в шоке и молили грозного великана ради бога остановиться, уйти и помиловать великий степной город…
На что безжалостный великан ответил только свирепой икотой и могучим рыком, снёсшим вековые дубовые рощи на дальних меловых горах.
Походив по разгромленному городу и не найдя уцелевших, великан тягостно вздохнул и удалился из города.
В детстве мать великана чудовищная красавица Нисполет Нильская в корчёванной столешнице возила своего сына в Такейский Ерузолим, поэтому он, хоть и любил человечину, но был на самом деле удивительно набожным существом. У великана была любимая книга «Латунная Пиплия из Раковниц», неизменно сопровождавшая его во всех подвигах и проделках. Она весила без малого сорок тонн и была сделана в Пенджабе величайшим индийским мастером Гуром Шрахаривишной Ботуэлем Третьим из мюнхенской броневой стали, колокольной афганской бронзы и толстого жёлтого пергамента, происхождение которого навсегда осталось загадкой. Толщиной она была с приличный трейлер, но на поверку всё же меньше чем знаменитая Тароттиева Скала. Двести лет семнадцать лучших Венских каллиграфов, соблюдая удивительную преемственность стиля, без устали наносили святые чернёные буквы и золотоносные рисунки, чья удивительная грация в дальнейшем покорила даже графа Дракулу, искусствоведческая капризность которого была широко известна за пределами Богемии и даже докатилась до вечного Нежнотрахова. Как я уже говорил, переплёт книги представлял из себя глубокий барельеф из нержавеющей крупповской стали изящной работы. Ярусами, ниспадая снизу вверх, как в безграничном японском комиксе, изображались все события, описанные как в Ветхом и Среднем, так и в Новом Завете и доходившие до времён Покемона. Выполненные с невиданной живостью и красотой, они были столь совершенны, что человек мог часами, как зачарованный, не отрываясь смотреть на это чудо, не испытывая ни усталости, ни разочарования, явлений обычных при долгом чтении. Великан не часто брал в руки священную книгу, ибо времени на это занятие у него было чрезвычайно мало. Основную часть своей жизни он тратил на поиски пропитания и женщин, которые потом тоже становились пропитанием. Иногда, видя нечестие этого мира и всё возрастающие толпы неверующих, окружающих его, великан впадал в неистовую ярость, хватал свою волшебную «Пиплею» и начинал молотить ею по нечестивым гражданам.
– Угагагаааа! Бу-угагагаааа! – слышалось тогда повсюду, – Бу-угагагаааа!
За раз он мог убить Пиплией одного африканского слона, до сорока полностью вооружённых конных латников-кнехтов, семерых легковооружённых аркебузиров-недомерков, до восьмидесяти крысоподобных католических кюре, трёх смачно-мясистых православных попов, двух зазевавшихся старух-сорок, до восьмидесяти пяти тысяч крыс, до двух миллионов восемьсот шестидесяти двух тысяч четыреста шестисот двадцати двух тараканов и до семисот тысяч прекрасно откормленных в казармах Шванмбургских мандавошек. Таким образом, он отправлял их своим мечом прямо в рай, куда они и стремились, по мнению отцов святой церкви! Этим делом, как ни парадоксально, он и занялся в очередной раз под Петров День. Сметая свежий дёрн, он вылез из самого нутра Чижовского Ската, в фетровой шляпе размером с приличный стадион, розовой душегрейке и тяжёлых жёлтых башмаках их бегемотьей кожи, измазался по пути глиной, разъярился, и пока карабкался на залитый свежей травой склон улицы Лиговой, содрал лапой два дома, как все считали, классической архитектуры. А потом пошёл долбать конечностями по всем городским святыням. Все были в шоке! Разбегавшиеся жители увидели воочию, как великан, высоко подъяв над головой великую книгу, бегал по Большой Дворянской в белых польских кальсонах с криком: «Господи! Помоги мне просветить этих заблудших гадов и скотов! Помоги мне, господи!» и молотил, молотил, молотил. Как ни странно в тот чудовищныйм день из десяти тысяч прибитых святой книги, обнаружилось, что почти все прибитые – мужчины. Самки понимали всё грамотно и заслышав первый удар переплётом по городской мостовой, тут же впрыгнули вместе со спиногрызами в подвал и канализационные проломы.
Горох был истоптан, сечка поваплена, сладкая гнилоурская репа- предмет гордости горожан и основной объект экспорта в заморские страны – ушла в землю по самую свою колокольную выю. Не ползли больше по полям вкусные, перелётные рыбы-угры, похожие на змей. Не летели белые лебеди, сладкие как мёд. Ушли в небытие лесные кабаны-скрижальщики, столь вкусные, что охота на них была повсеместной забавой. Последне хрю-хрю вам в след, праздные господни дети! Ящур покосил коней и быков всего края. Восплакались девы чудные! Ор стоял кипешный! Что осталось родной земле, что превиделось? Дело трудное, праздношлатное!
Всё как назло произошло таким образом, что нигде не было больше еды в нашем плодородном крае, и настал великий голод, и настал, невиданный в том благословенном краю. И настал.
Первым голод почувствовал святой человек, ветхий бутылочный пустырник Викентий Ладожский, живший при лаборатории Пратинского Универсиума в огромной стеклянной колбе без этикетки. За все спокойные годы жизни в колбе, он постепенно от скитаний с клюкой и сумой по большим имперским дорогам, навсегда насытил свой желудок, успокоился, перестал думать о превратностях судьбы, забыл о поисках своего угла и мечты о верном куске хлеба счёл уже малозначительными мелочами. Всё у него было так хорошо, что и жена не потребовалась. Как сложилась бы его жизнь, не будь этого голодомора, мы не знаем! Сложно по жизни стать пустырником, сколько всего нужно знать, но ещё сложнее надыбать такую колбу, какая была у него, старую, с накипью загадочных химических процессов. Это было национальное достояние Фиглелэнда – человек в огромной бутылке – и его всегда чрез горлышко кормили отменно: сечкой и вялеными овечьми кишками. Так как приспособлений, обеспечивавших жизнь святого, было очень много, и все они были очень сложны, его стеклянная келья была похожа одновременно на лабораторию алхимика и тренажёр космонавта. Даже во времена великиих народных бедствий его кормили до одури, зная насколько пронзителен его тяжёлый сутенёрский взгляд и голос.
Однако на этот раз всё оказалось гораздо хуже, чем мог предположить бутылочный человек.
На сей раз кормить его перестали сразу. Не было ни завтрика с печёной маковой булочкой, ни обеда с сытной гречишной кашей, ни полдника с яблочным повидлом на галете. Никто, совсем никто не открыл вход и не пришёл к нему.
Первый день, когда никто к нему не пришёл, он не понял ничего. Он подумал, что то ли прислуга заболела, то ли ошибся кто, и всё ещё исправится к общему благу. На второй день к вечеру, опять не дождавшись никого, Пустырник заметался по колбе в лёгком и понятном нам смущении. Но и тогда в его душе жила уверенность в благополучном разрешении досадной случайности. На третий день одиночества его лицо вытянулось и побледнело, а глаза впервые за последние десятилетия приобрели осмысленное выражение. Он понял, что никто никогда не придёт, кормить его больше не будут, предоставив эту высокую прерогативу Богу! На Бога он, разумеется, надеялся, но сам, как оказалось, оплошал!
Перед бутылочным столпником стал выбор – умереть ради науки в колбе, или жить на свободе? Выбор был нелёгкий, ибо за годы великого сидения, бутылочник стал по-профессорски умён.
Спас его от голодной смерти, надо сказать, всё-таки сам вампир, и спас при помощи своей всепроникающей книги Пиплии – в злобе он разбил бутыль, разбросал отовсюду тонные осколки и таким образом случайно выпустил из неё исхудалого святого человека.
Первые часы после освобождения бутылочный человек был тих и скорбен. А потом разошёлся, размялся, огляделся, взял из лабораторной кладовки старый тюристический рюкзак, и ушёл по Старо-Владимирскому тракту искать свою любовь и место в жизни.
Так, как делали во все века его предки.
Звали святого бутылочника по традиции Иван Заяц, а не Фаул Дитрих, как было на этикетке, и пусть теперь он навсегда войдёт в историю под своей натуральной фамилией!
Точно так же, как прозелитическая святая блудница Наташа Петербургская, обрётшая новое.
Все святые сошли со столпов, все монахи кинулись в леса и на поляны за грибами. Их имена здесь и никто не сможет отрицать точности приведённого здесь списка:
1. Сибурдон Армейский.
2. Вардипуль Барменский.
3. Мошгир Вошкинский.
4. Драгвор Гомнодавский.
5. Масдик Двитул.
6. Жопасолизус Елагинский.
7. Цебрюханоль Жабер.
8. Сынанос Замоскворецкой.
9. Гом Ипкин.
10. Вепродрагомилус Короед.
11. Педероглус Лативецс.
12. Вульвасос Мамин Сын.
13.Глазнажоп Натянул.
14. Марчи Трахай Ярче.
За эрой столпников и рачителей амбры последовали времена великих княжеских поборов и карательных походов на недоимщиков. Походы, организованные на деньги самих князей перемежались набегами нанятых князьями степняков, «зело нагонявших страху на толпы смердоусов».
Княжескому произволу не поддалось только племя фалосичей, доведённое княжеским произволом поистине до градуса сумасшествия сионских мудрецов. Племя регулярно ходило в пустыню, выделило из себя парочку недурственных столпников-архитрахиев и дюжину пророков, испражнявшихся карминным мумиём и благородной диванной камедью. Племя довольно быстро переняло основные средиземноморские забавы и по субботам распинало на Корявом Дубе зараз до сотни воров и разбойников, не забывая оплакивать их потерянные души. Однако в один из дней из Византии прилетел бородатый ангел в белом смокинге и властно повелел повторно окрестить всю честную братию, взиравшую на него теперь сквозь шели в землянках и бойницы в башнях.
Кенязья Самуйло и Горгун, не требуя подтверждений, сразу бросились исполнять команду, и рубили до тех пор, пока кто-то не сказал им, что из-за груды тел более не видно нигде бородатого ангела с кадилом и фамой. Тогда они остановились и перевели дух. А ангел, орудовавший именем Покемоницы Пражской, на шёлковых крыльях больше не прилетал. Говорят, что некто неизвестный слышал последние слова въедливого ангела, и вот что он якобы сказал:
«Братия! Почему эти скоты не ходят в блаженную церковь? Неужели же им безразлично слово Божие, настоенное на высоких травах Нового Иеруссалима, неужели же простые и кристально чистые слова Христа застревают в их душах, не доходя в глубь? Как, отчего опустилась планка за последние годы? Скажите мне!»
Молчание было ему ответом.
Потом в городе начались нежданные, лютые пожары, или точнее говоря – народные поджоги. Все знали, что здесь, в Нежнотрахове жили нервные, быстрые на расправу люди, не терпевшие ни в чём недостатка, поэтому, когда pi…dets наставал, они жгли всё подряд, не чувствуя ни усталости, ни раскаянья. Не могла вынести их поэтическая душа опыта – сына ошибок трудных и позора мелочных обид. Они поднимали сразу в тумане моря голубого свой белый парус и горделивой рукой вели корабль сквозь штормы эпохи. Хлопотливыми буревестниками они летали над бурливым океаном, оглашая влажную стихию резкими криками. Не давала им покоя и мечта о Времени Роз, омытая слезами справедливого фюрера.
Сначала загорелись заповедные леса с болотными зубрами и бобрами, которые поджечь довольно просто. Следом к неудовольствию праволавных пановей сгорела деревянная церковь Лавра и Фрола, в которой был единственный в Фиглелэнда удивительный пластилиновый иконостас с ликом святой Доры Изауры Сконапельской. Потом настал черёд и других объектов народного хозяйства. Сгорела основная городская баня вместе с безухими сильфидами на скромном деревянном фронтоне и уникальной коллекцией резных оловянных шаек, завещанных местному краеведческому музею. Сгорел ресторан «Триада» – центр провинциального дубового джаза, где играл на рояле знаменитый джазист Буми Шпильвзад. И, наконец, сгорело стометровое вращаюшееся фалафельное изобретение – чучело богатура Сырдара – девятое чудо света, на которое восемь лет денно и нощно отводились спасённые от бюджета деньги. Его строили на въезде в город из привозного сионского фалафеля для разгона гигантских вороньих стай, тревоживших акваторию Нежнотрахова. Много сгорело в тот год в Нежнотрахове. Архи много. Так много, что сердце готово облиться кровью!
К сожалению, не догорела и почти вся уцелела едрёная Поломоньевская библиотека имени Сароса – сборище народного бреда и помутнения. Вся ересь в этом собрании была сохранена благодаря энергии заведующей библиотекой молоденькой Ирой Кряккиевской и зрелой выдатчицей Диной Друбичич. Все в копоти, грязи, зачуханные донельзя, шепча молитлы, они вытащили завёрнутые в полосатую матрацную ткань «Коцаную Нюрнбергскую Тору», чудом уцелевший в Маазельской битве заповедный труд Лапездана Поплина «Обрезание и Договорная Справедливость», книгу Фрая Спициона «Тфилин Аршинного Гура» и самое редчайшее сочинение неандертальского анарейства – чудом, да, каким-то чудом сохранённую в наполеоновский кавардаш сверкающую жемчужину илудаизма – «Чудные Луспекайские Пекари и великий братан Моксей» в двух десятикнижиях. Они были так горды спасением бесценных святынь, что тут же забыли их на паперти, вследствие чего всё новообретённое потрясающее собрание снова и на сей раз навсегда, было утеряно, перекочевало в нечистые карманы, пропало, пущенное на самокрутки и подмётные письма прихожан. Впрочем пострадали не только мощные культурные центры Нежнотрахова. Лучший в городе «Королевский Гандикап» с породистыми беговыми тараканами Мартой, Филом и Парамошкой, примыкавший углом к Поломоньевке, тоже начисто выгорел.
Народ улюлюкал неистово, бранспойты били напропалую, ветряки полыхали вовсю, бедняки, видя бедствие богатых и ущемление прав состоятельных, радовались неслыханно. Но и их не обошла чаша сия – обойдя пожар по ветру, многих закирдычников великан с криком «Фильтруй базар, суки!» подавил, дабы больше они не шумели.
Это был второй великан, явившийся без приглашения в древний город.
Хоть бич божий и был вампиром, ему не было чуждо ничто человеческое. Он маялся своими дерзкими подвигами и прогибался под весом своего Авторитета. Ему надоели мерзкие козявки, разбегавшиеся с противным писком из-под его ног, надоели их дикие нравы, надоел этот халтурный город, больше походящий на свалку, с его продавленными мостовыми и кривыми пожарными вышками, надоело всё. И он бродил по холмам, весь нахмурившись – живое воплощение Печали, бродил одиноко, не зная чем себя занять. И бил всё, что попадало под руку, и громил, и топтал, приговаривая: «Так надо, Мио Мадонна! Так надо! Es mortus non Coitus! Пришедшие восплачутся, а отошедшим привет!!»
Его слова воспринимали со вниманием. Так назарейским прозелитам в пустыне слышался скрижальный голос, как казалось, нёсший надежду.
Потом великан уморился, ушёл великими шагами в камерную угольную Марракотову степь, чтобы там, посреди топких мшаников Терпигорья, среди безлесых и пустынных холмов Жлобовонья в середу раскинуть великие клешни свои, упасть на зумь каинову огненным шаром и, всему вопреки, прокатившись вересковой пустошью, замереть у отрогов Катькиных пригорков, чтобы тут же заснуть бодрящим тысячелетним сном идиота. Ни кровавые походы Атиллы, ни ласковые песни Ренессанса, да простят меня читатели за это слово, ни жёлтый, хитромудрый плескун Чингиз-хан с его полумиллионной армией не взволновали его, не пробудили его изрядно дремлющего самосознания.