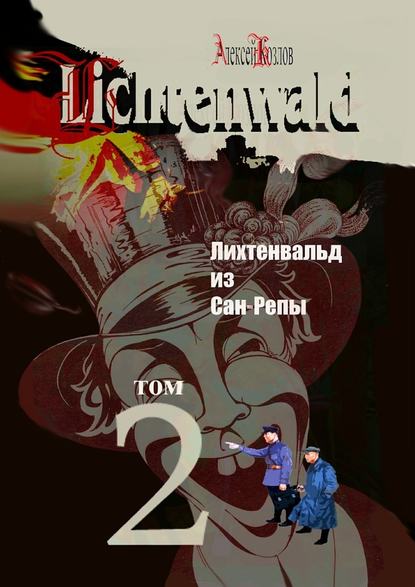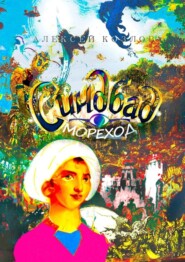По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лихтенвальд из Сан-Репы. Роман. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вернувшись в своё ужасающее общежитие, я заснул столь крепким сном, что проснулся только через сутки.
………………………………………………………………………………
История с Недоношенным и Ходжой послужила фундаментом для моих весьма натянутых отношений с другими военными строителями. Она испортилась окончательно, когда, будучи дознавателем, я отказался от взятки в пять тысяч гренцыпулеров – чудовищной цифры по тем временам. Однажды, когда я одиноко шёл вдоль общежития, дабы вынести ведро с мусором, от тёмной торцовой стены отделилась фигура, и я узнал коренастого Увара Умдарбежбужбешврежькралиева. Он поздоровался и сказал, что хочет поговорить со мной. После чего он сказал, что дело, заведённое на Гостоева, несправедливое, он поднял руки на офицера случайно, и если оно будет раскручено, хороший, но чересчур горячий парень сядет в тюрьму ни за что ни про что. Вах-вах-вах, таварсчь лтнант!
– Он ударил офицера! – сказал я, – И извинений ни у кого просить по-моему не собирается!
– Да! – сморщившись, как лимон, подтвердил Умдарбежбужбешврежькралиев. – но он хороший человек!… Мы знаем, что вы тоже в глубине души хороший человек… Хоть и идеалист.
И он потупился и покраснел всей своей медной рожей.
– Вот ты какие слова знаешь, плут! – сказал я ему и насторожился, – И что тебе нужно от меня?
– Да как! Вы собирали справки на Гостоева, как дознаватель, если бы эти протоколы, справки и всё остальное сгорело бы или пропало, было бы очень хорошо. А у вас было бы в кармане пять тысяч имперских гренцыпуллеров!.. Это – новая машина!
В его руке веером разошлась пачка денег, вынутая из-за спины.
Пять тысяч гренцыпулеров в качестве взятки, вручаемые мне на помойке позади моей общаги – это было в высшей степени оригинально! Я был польщён, они наконец оценили меня! Как я его не убил, я не знаю. У меня к тому времени мозг воспламенялся сразу, а кулаки не надо было уже упрашивать, чтобы они пошли в ход.
Когда я уходил, он с отвращением сказал мне в спину: «Небожитель! У нас в горах таких называют «Идеалистами».
– Не твоё чурбанье дело! – сказал я и затопал ногами. Он побежал.
И с не меньшим омерзением подумал: «Какие слова знает, сука продажная! „Небожитель“… „Идеалист“. Образованный, сука!»
Я не взял эту взятку, но судя по тому, что Гостоева в суде оправдали и признали дураком с дальнейшей комиссацией, кто-то эту взятку взял. Скорее всего это были врачи из медкомиссии. Алчность этих слуг Бога Здоровья общеизвестна и в рекомендациях не нуждается. В моём государстве коррупция уже правила бал, а я, как наивный энтузиаст упрямо не хотел этого замечать. То, что мне предлагали взятку в пять тысяч дубовых гренцыпуллеров, а я не взял, через день знали все в части.
Восточная ментальность не смогла переварить такого безумия, и меня стали бояться пуще огня. На востоке человек, не берущий взяток – или умалишённый, или небожитель-идеалист, хотя для них это одно и то же. Но это для них страшный человек, потому что этим он перечёркивает всю их хитрую философию.
На следующий день у командира части было совещание, и в мой адрес ничего не было сказано. Громы и молнии летели в адрес других – в части опять украли огнетушитель.
Строго к полудню все роты построились у своих казарм и строевым шагом проследовали в соседнюю часть, где готовилась пропагандистская экзекуция провинившихся военных строителей. К этой акции политические органы готовились загодя. Они придавали ей особое значение, как средству запугивания и воспитания.
Огромная квадратная площадь со стоявшей в центре наскоро сколоченной не то плахой, не то платформой, была уже запружена гомонившим личным составом. Пахло Достоевским. Около плахи суетились несколько человек с автоматами. Рядом стоял автобус с затенёнными окнами. Там сидели главные иезуиты. Под ударами солдатских копыт в воздух поднималась едкая пыль. Звучали песни. Всё очень напоминало какую-нибудь картину бессмертного Верещагина или на худой конец сухопутного Айвазовского.
Между тем представление началось. С короткой, но крайне непонятной и оттого эмоциональной речью выступил какой-то толстый хрен, возвестивший о цели собрания. Он рубил воздух кулаками и размахивал руками с приговорами. Хотя он путал склонения со спряжениями, смысл его инсинуаций был понятен почти всем.
«У нас, ёпть, есть не только добросовестных солдатов, ёпть, – возвестил он, – не только воины, нах, но и разного видов преступника, …, попирающие, бла, святые армейское законы, нах, и бросающая тень на обороноспособности нашей, ёпть, любимех родинов, нашей, в общем, отчизны. Это преступники, нах, и они сейчас публично так будет лишено воинских звания и отправлены в не столь отдалённых местов для, ёпть, заключения так! Пусть все остальное увидят тех и ужаснутся, нах, их судьбу! Вывести преступников и зачитывоваать, ёптьбланах………………………., приговоров!»
Двое краснопогонников вывели какого-то зачуханного военного строителя. Задроченный – вот самый комплиментарный эпитет, который ему можно было дать. Худая шея торчала из грязного ворота без подворотничка. Глаза у него слезились. В них застыло выражение затравленного животного. Зачитали приговор. Ему дали три года заключения в колонии. Краснопогонники аффектированными жестами сорвали у солдата тряпочки с плеч и увели со связанными руками в пазик. Дальше пошло, как по маслу. Осуждённые были мелкие, дохленькие и растерянные. Они не оказывали никакого сопротивления жестокой длани, повергшей их в грязь. Испортил все под занавес солдат – этнический немец. Когда зачитали приговор, он гордо поднял голову и сам с треском выдрал погоны с плеч, после чего со злобой растоптал сапогами. Лицо его стало красным от гнева и бессилия. Его тоже увели.
На этом просветительная и воспитательная акции закончились и подгоняемые прапорщиками, военные строители потянулись в свои части. Признаюсь честно, общая картина парада и разоблачения грешников произвела на меня тягостное впечатление. Мне почему-то вспомнился Достоевский и его разжалование. Правда, времена были другие, шпаг уже не было, хотя ломать пока было что. До сих пор передо мной стоит безликое солдатское каре и немец, брезгливо срывающий уже ненужные погоны.
На крыльце штаба я перезнакомился со всеми прапорщиками и даже, как оказалось впоследствии, стал объектом их экономических диверсий. Старшина Бордин, старшина Крошкин и старший прапорщик Малоев буквально затащили меня играть в «Преферанс». Три бутылки водки служили неплохим аккомпаниментом готовящемуся торжеству. Я до того никогда в преферанс не играл и мизерная ставка в четыре копейки за вист, при оговоренных шести часах игры меня испугать не могла. Я судил по тому, что в «Дурака» за шесть часов можно при очень большом невезении проиграть рубля три, не больше. Подумаешь там, четыре копейки вист, какая чепуха! Подумаешь, «Преферанс»? Прорвёмся, какие наши годы!
Эти тоже пытались меня опустить, только в финансах!
Игра началась. Я держал карты забинтованной рукой и иногда морщился от боли. По мере того, как я стал прозревать, в какую передрягу влип, ужас всё сильнее овладевал мной. Ни зная никаких тонкостей, а иногда и правил, витиеватой игры, при трёх кровожадных партнёрах, объединённых общим желанием пустить кровь моему кошельку, я должен был проявить стойкость и держался испытанной тактики. Принципы «Дурака» я распространил на «Преферанс» и всегда заказывал на взятку меньше, чем мог взять наверняка. Как ни странно, это принесло свои результаты. Я выиграл сто восемьдесят гренцыпулеров. Это был подвиг. Я потерял уважение моих скрежещущих зубами партнёров, которые имели при этом весьма плачевный вид, но зато понял, с кем я имею дело в лице этих патриотичных прапорщиков. Мои партнёры имели ужасный вид: злоба так и сверкала в их глазах. Я дал себе слово больше никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах в преферанс больше на деньги не играть. Этой клятве я верен и по сию пору. Все другие клятвы с тех пор померкли или прекратили существование.
Нравы в военном городке отличались отменной патриархальностью. Кастелянши общежитий жили попеременно со всеми солдатами. Сотрудницы столовой были чрезвычайно любвеобильны также, отдавая предпочтение военным. Дух ожидания и реализации запретной любви так и реял над бараками, толкая даже очень стойкие организмы в лапы Бахуса и Морфея.
Только я успел устроиться, выпил водки с тощим комсоргом, с которым только что познакомился, как за дощатой стеной раздался грохот и дикие вопли. Я, честно говоря, сначала подумал, что начался солдатский бунт. Жизнь у солдат, думаю, понятно какая, вот они и взбунтовались. И идут нас убивать табуретками и вешалками. Оделся я, вышел на крыльцо. А там солдаты в темноте топают кривыми ногами и орут, что есть мочи. А прапор пьяный их наяривает и в тонус вводит. Оказалось – вечерняя прогулка. Ну, думаю, что за идиот перед сном заставил людей топать ногами и орать во всю глотку. Кретины какие! Нет, здесь не соскучишься, не дадут! Это не армия, а сумасшедший дом! Так оно и оказалось.
Тот, кто хоть раз был в стройбате, прекрасно знает, какого рода контингент поставляли военные комиссариаты в эти войска. Сюда шли все отбракованные, слегка и сильно сумасшедшие, заключённые тюрем, а также юные алкоголики и наркоманы, не проходившие в строевые дивизии ни под каким видом.
Распорядок в части был железный. Страшный подъём в шесть утра и получасовые отчаянные метания опухшего личного состава по кубрикам. Умывание, которое чаще заменялось сморканием. Подъём был особенно ужасен зимой. Щитовые казармы были ветхи и худы, в холодные Сан Репские ночи температура в них редко когда превышала пять градусов тепла. Само собой разумеется, кое-как отогревшиеся под матрасами, к утру военные строители не имели сил вылезти из-под одеял и матрасов, и оттягивали этот страшный момент, как только могли. Когда офицерский состав умудрялся приподнять солдат, с тощих одеял верхних ярусов кроватей летели жирные вши.
После завтрака, который проводился в полвосьмого, колонна прямо с развода отправлялась на объекты по бетонной дороге, причудливо петлявшей между сосен. Метров через триста строй распадался и превращался в процессию пленных нищих, которые одиноко или парами медленно брели к своей трудовой Голгофе.
Часть строителей занимались кладкой, часть сваркой, часть была монтажниками или бетонщиками. Присутствующий на сварке мог быть удивлён: обваривавшего арматуру в колодце солдата опускали в шахту на верёвке и давали инструкцию – теряя сознание от недостатка воздуха, он должен был дёрнуть за верёвку, после чего его поднимали. Никакие маски при аргоновой сварке предусмотрены не были. Не думаю, что такие опыты продлили жизнь солдат, вынужденных участвовать в таких развлечениях..
В час дня был обед. Он продолжался час, после чего военные строители снова строились и отбывали восвояси. После обеда я проверял их наличие на многочисленных объектах, закрывая глаза на отсутствовавших – всё равно отловить и пересчитать эту ораву на территории несколько десятков квадратных километров было совершенно нереально.
Состояние личного состава было плачевным. Многие болели болотными болезнями – нарывами на ногах, язвами, психические расстройства тоже были не редкостью. Были случаи побегов и самоубийств. Были и ещё более трагические случаи. Один солдат, дабы быть комиссованным, решил симулировать самоубийство. Он привязал верёвку, встал на табурет и наказал своему другу, как только он оттолкнёт табурет, снять его с верёвки. Сам он для придания всему видимости находился в метрах пяти. Когда потенциальный самоубийца оттолкнул табурет, дневальный бросился к нему, но споткнулся и упал. Пока он вставал с пола, прошло несколько секунд, и его друг был уже мёртв.
В нашей части тоже случалось нечто подобное. Люди болели и гибли.
Куданазаров был жёлт, стар и похож на 70-летнего старика, а не на 19-летнего солдата. Хотя он был из другой роты, а посему никакого отношения ко мне как бы не имел, он всё время жаловался мне на больную печень, и я несколько раз по согласованию с его ротным начальством сердобольно отвозил его по собственной инициативе в госпиталь. Там его обследовали и написали, что он здоров и к службе годен, как штык. Через два дня, 31 числа, под Новый Год, он умер.
Был декабрь, и леденящая чёрная ночь стояла над тихой частью. В ротах шла гульба. Такие же невыносимо яркие звёзды горели над окружёнными немцами в Сталинграде много лет назад. В тот день я был дежурным по части и должен был отдать первые распоряжения. Вечером привезли гроб. Куданазарова положили в домовину, установленную на две табуретки в клубе части. Клуб был неотапливаемый. Завклубом был Назарчук. Это был коренастый крепыш с побитым оспой лицом и хитроватыми манерами.
В пять утра, когда уже надо было готовить дневальных к подъёму ротного состава, я стал разыскивать Назарчука, но его нигде не было. Открыв амбарную дверь клуба, я вошёл внутрь и громко крикнул: «Назарчук!»
В гробу кто-то зашевелился, и крышка приподнялась. Назарчук использовал гроб в качестве спального мешка. Он выбросил из деревянного спальника холодное худое тело Куданазарова, которому тепло всё равно не было нужно. Тело лежало рядом с гробом, прикрытое тряпкой. Я вышел на воздух и стал смотреть на звёзды.
Выхожу один я на дорогу…
Средь холмов кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу
И звезда с звездою говорит…
Лейтенант Зотов сопровождал тело на родину и вернулся с рассказами об ужасающей жизни горцев. Там не знали ни простыней, ни подушек. Там была страшная нищета, в этих селениях. Люди не знали ни врачей, ни законов.
А здесь, в военном городке гнили люди, отпавшие от столиц и мира.
Глава 10. Коронка, но не та!
В моей роте был солдат по фамилии Коронка. Воспоминания не сохранили его образа, я помню только, что он был высок и вежлив. Не выдержав «тягот военной службы», он стал изображать сильные головные боли и специально сидел у окна лазарета часами, не двигаясь, придав лицу мученическое выражение и тупо вглядываясь в одну точку. Его потуги имели последствия. Сжалившись над болящим, командир части отправил его в госпиталь на обследование. Там больной продолжил свои жалобы уже не дилетанту командиру, а профессиональному врачу. Недели три добродушный врач внимательно выслушивал жалобы Коронки на дикие головные боли, мигренные и иные. Через три недели, выслушав очередную порцию россказней, почёрпнутых из популярных книжечек, медик спросил страдальца:
– Слушай! Служить не хочешь?
– Не хочу! – просто ответил солдат.
– У тебя будет запись в билете, что ты дурак, ничего если так?
– Ничего! – ответил солдат. – Пусть будет запись, чёрт с ней, с записью! Мне лишь бы убежать отсюда!
– Хорошо! – смиренно сказал врач и пошёл оформлять бумаги.