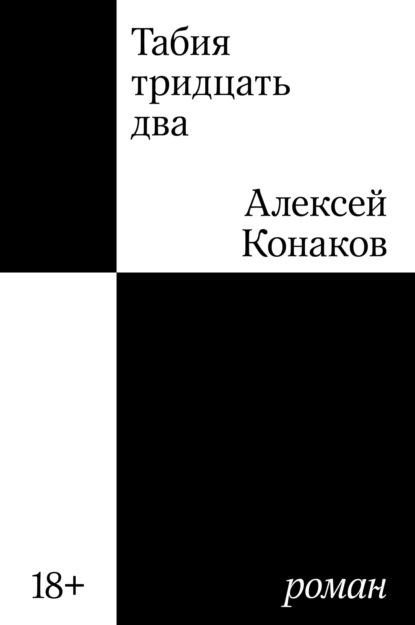По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Табия тридцать два
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тщетно!
(Увлеченный Д. А. У. не готов размениваться на новости из ООН.)
– Тогда, Кирилл, все это никак не называлось, просто разные политические события, и только лет через тридцать (как раз Ваня Абзалов стал моим аспирантом) публицисты придумали особый термин: «Переучреждение России». Смешно: сегодня Переучреждение воспринимается как что-то безусловно хорошее и светлое, как начало новой, правильной, справедливой жизни, но в 2020-е годы большинству наших сограждан так не казалось. Ведь надо было платить репарации – и огромные! Получалось, что если все население страны, считая стариков и детей, будет работать по двенадцать часов семь дней в неделю на протяжении пятидесяти лет – Россия и тогда не расплатится до конца. Поэтому победители полностью конфисковали золотовалютные резервы и установили внешний контроль над финансовой политикой Правительства. Ввели жесточайшие обязательства по продаже нефти, газа, металлов, алмазов, древесины и прочего. Внутри страны, разумеется, austerity[3 - Строгая экономия (англ.).], режим тотальной экономии. (Вы наверняка читали, что в докризисной России почти у всех были «смартфоны», такие гибриды мобильных телефонов и компьютеров (с моментальным выходом в интернет); теперь невозможно, слишком дорого, плюс, я уже сказал, дедигитализация, запрет на вычислительные мощности. Но вообразите другое: раньше в двери не стучали. Применялись электрические звонки. О них тоже пришлось забыть. А как же, атомная энергетика уничтожена, половина теплоэлектростанций в простое (газ и нефть идут принудительно на экспорт) – первое время свет на три часа в день включали, батареи не топили.) Продукты только по талонам. Словом, Кирилл, уровень жизни рухнул после Переучреждения потрясающе. И вроде вся страна трудится, а слишком тяжело: логистика, бухгалтерия, планирование, управление производством – до Кризиса это делалось с помощью компьютеров; после (и до сих пор) – практически вручную. Все медленно, что твой шатрандж. Каисса, банальное отсутствие гражданской и грузовой авиации в такой огромной стране, как Россия, замедляет экономический рост кратно.
– Выходит, Дмитрий Александрович, этакое извечное vae victis[4 - Горе побежденным (лат.).]? И населению было бы гораздо лучше, если бы Россия не проиграла ту войну Западной коалиции?
– Глупости, Кирилл! За некорректные ходы наказывают, а Россия тогда совершила слишком много некорректных ходов (зачем надо было пугать весь мир термоядерными боеголовками?). Да, расплата оказалась тяжелой, зато мы встали наконец на верный путь – путь свободы и процветания, мирного развития, добрососедских отношений. Впрочем, – Уляшов делает драматическую паузу, – в том варианте был опасный изъян.
– Изъян?
– Большинство экспертов по обе стороны границы полагали, что принятых в процессе Переучреждения мер вполне достаточно для того, чтобы навсегда купировать «имперский синдром» России, сделать ее нормальной страной, не пытающейся постоянно кому-то угрожать, что-то завоевывать и так далее. Но существовала группа интеллектуалов (и я принадлежал к их числу), уверенных, что реформы не должны ограничиваться политикой. Пресловутый «русский империализм», по нашему общему мнению, таился не только и не столько в головах отдельных правителей – искать его надо было где-то еще. В конце концов, решающее значение имели не ядерный арсенал и не высокие цены на нефть, позволявшие докризисной России тратить миллиарды на армию; агрессивная имперская политика велась ведь и раньше, задолго до изобретения баллистических ракет и нефтяных фьючерсов. И значит, полагали мы, в самом начале России новой, в этом многообещающем дебюте, уже затаилась ошибка – и если ее не выявить и не устранить, то никакой Парламент, никакой Карантин не уберегут нашу родину от страшных рецидивов империализма. Так, Кирилл! Требовалось обнаружить и решительной рукой вырвать корень зла.
* * *
Будь у Кирилла чуть больше кулинарного опыта, он бы оценил, как замечательно сочетается «корень зла» с черным крепким сладким краснодарским чаем, предложенным Уляшовым. Но у Кирилла такого опыта нет, и он, слушая Д. А. У., наоборот, совершенно забывает о клетчатой кружке, грустно остывающей на ферзевом фланге стола.
А «корень зла» тем временем господствует в центре (беседы).
– Нельзя сказать, Кирилл, чтобы наша группа представляла собой какой-то очень могучий think tank; нас было не слишком много, а сами идеи, разрабатываемые нами, высказывались и раньше (Элиф Батуман об этом писала и другие). Но зарубежные эксперты плохо ориентировались в новом российском контексте, а люди внутри страны гораздо больше думали о физическом выживании; так и вышло, что, кроме нас, обозначить проблему оказалось некому. Главную роль сыграли в той истории мои старшие товарищи – академик Леонид Афанасьевич Зырянов (специалист по русской филологии) и экономист Виктор Альджернонович Туркин (как раз избранный премьер-министром посткризистого Правительства); они и объяснили всем популярно, что не так с Россией и с русским народом, откуда лезет империализм. Анализ ими был проведен безжалостный и бесстрашный, максимально нелицеприятный; результаты тогда многих шокировали. М-м, извините меня, Кирилл, за странный вопрос, но – пробовали ли вы когда-нибудь читать русскую художественную литературу XIX или XX века?
Вопрос действительно странный, но Кирилл, и в самом деле листавший какие-то из книг той эпохи, решает воспользоваться случаем и щегольнуть познаниями.
– Да, Дмитрий Александрович, приходилось. Помню, у Льва Толстого в «Войне и мире» интересный дебютный ход: герои говорят на двух языках сразу, и выходит такая смесь «французского с нижегородским», как Пушкин шутил. Но в целом, конечно, совершенно некорректные вещи. Никакой логики передвижений; никакой внутренней необходимости: действие может повернуть в какую угодно сторону безо всяких последствий для произведения в целом (будто бы так и надо!); фигуры плохие, планы неясные, масса темпов тратится непонятно на что, единственная выявляемая стратегия автора – полный произвол (впрочем, это объяснимо, ведь автор один: как хочу, так и ворочу; солипсизм в чистом виде, да). Словом, я не удивлен, что теперь такие, хм, «творения» никто не читает. Скучно, натужно, тяжеловесно. Некрасиво. И главное: необязательно.
– Прекрасно сформулировали, Кирилл, по-капабланковски (просто и сильно)! Но, видите ли, настоящая беда заключалась совсем не в том, что российские авторы создавали скучные натужные тексты, которые сегодня почти невозможно читать. Ладно бы, и пускай бы не читали. Так ведь наоборот – читали, и преусердно (поверите ли мне?). Вот где трагедия, дорогой Кирилл! Читали всем домом, всем миром, всей страной, читали десятилетиями и столетиями, и преподавали в школах, и заучивали наизусть, и цитировали повсеместно, и исследовали, растрачивая на это народные деньги, и славили на любые возможные лады, и называли в честь писателей и поэтов пароходы, и аэропорты, и целые города, и ставили на площадях памятники, а если появлялся вдруг иной светлый ум и вопрошал, зачем же такое читать и тем более прославлять, так его подвергали остракизму, гнали с позором и не подавали руки. Но книги-то и были виновны в Кризисе.
– Книги?!
– Это научный, достоверно установленный факт, Кирилл. Увы! Именно через сочинения литераторов входили в умы россиян расхлябанность и необязательность, презрение к элементарной логике и к минимальному порядку, пренебрежение строгостью мыслей; входила вера в собственную исключительность («Умом Россию не понять!») и любование дикой, разрушительной силой («Да, скифы мы, да, азиаты мы!»); входила, в конце концов, темная страсть к экспансии, к расширению, к захвату: сначала – чужого внимания, чуть позже – чужих умов и душ, в итоге – чужих территорий и стран. Теперь об этом забыли, как о страшном сне, а ведь в начале XXI века русская литература была самым настоящим культом, Кирилл; зловещим, как оказалось, культом. Потребовалось поражение в войне, потребовались Кризис и Переучреждение России, чтобы мы – все российское общество – раскрыли наконец глаза и честно и непредвзято взглянули на те якобы «великие произведения», которые сочиняли Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Горький и иже с ними и которыми нас учили восхищаться, уверяя, что все написанное прекрасно, и разумно, и правильно. Что же мы увидели, перечитав? Оригинальные мысли? Любопытные сюжеты? Беспристрастный самоанализ? Как бы не так! Только империализм, шовинизм, ненависть к другим народам и странам. Толстой откровенно восхищался мощью русского оружия, державшего в ужасе Европу после 1812 года, Лермонтов славил жестокое завоевание Кавказа, Пушкин воспевал подавление Польши и агрессию против Швеции. Знаменитый поэт Бродский оправдывал применение напалма в колониальных войнах, потому что «горные племена» не очень-то тянут на людей: «Все меню баранина да конина, никогда не видели пианино». А теории Достоевского о том, что русский человек «имеет право» убить кого угодно, а консервативные идеи Солженицына, а провластные стихотворения Тютчева! (Популярная поэтесса Анна Ахматова – как доказал со всей ясностью филолог Жолковский – вообще была, ни много ни мало, Сталиным в узкой юбке, тоже строила «культ личности», применяла террор и так далее.) Словом, все эти авторы, которых мы по наивности считали «честью и совестью нации», являлись на самом деле тривиальными пропагандистами на зарплате у государства, проводниками и апологетами имперского мышления. А еще – глашатаями антисемитизма (помню гоголевские проклятия в адрес «рассобачьих жидов»). И гомофобии (знали бы вы, как русские писатели измывались над великим Мишелем Фуко: «Что по ту сторону добра и зла / так засосало долихоцефала? / Любовник бросил? Баба не дала? / Мамаша в детстве недоцеловала?»). И мизогинии: «Я научила женщин говорить / Но, боже, как их замолчать заставить!» (У того же Льва Толстого женщина – всегда только примитивная самка, которая, если ей повезет, станет машиной для деторождения, а если не повезет – неизбежно покончит с собой, бросившись под поезд.) Вы представляете, дорогой Кирилл, что происходит с людьми, когда им с младенчества вбивают в голову такие идеологемы?! И вот парадокс: любой человек может отказаться, например, от блюда, которое выглядит неаппетитным, несвежим или просто опасным для здоровья; однако жители России, прежде всего дети, на протяжении многих поколений не имели права отказываться от чтения текстов «великой русской литературы» – хотя от нее воротило ничуть не меньше. Куда там, мощнейшее давление: сразу объявили бы невеждой, выгнали бы из школы, выдали бы волчий билет, сделали бы парией, сломали бы жизнь. И я не преувеличиваю! Но от плохой еды вас просто вытошнит через полчаса, плохие же идеи подобны паразитам, подтачивающим организм на протяжении многих и многих ходов.
– Дмитрий Александрович, неужели это могло быть правдой?
– Увы, Кирилл – и какой нелегкой, тяжелой правдой. Первым на зловещую роль художественных текстов, на исходящие от них угрозы указал Леонид Афанасьевич Зырянов (сделав громкий доклад на третью годовщину Переучреждения); вслед за этим вопрос стали обсуждать в университетах, потом подключились журналисты – в итоге развернулась общенациональная дискуссия. И вскоре обществу стало очевидно, что все произведения русской литературы чрезвычайно токсичны, что она целиком – скомпрометированное поле, как сказал бы Арон Нимцович. Но за счет чего удавалось этому злому мороку так долго висеть над нашей родиной? За счет помощи властей, разумеется. Здесь нужно вспомнить, что у истоков отечественной словесности стояли аристократы и монархисты: Державин, Карамзин, Пушкин. Царям и тиранам всегда нужно идеологическое обоснование своего правления, и литература охотно давала такое обоснование, индоктринируя массы идеями «превосходства» и «богоизбранности» русских. На самом деле только этой мощнейшей идеологической индоктринацией и можно объяснить тот факт, что люди совершенно не замечали вопиющего вреда, наносимого их душам русской литературой. А ведь достаточно было задать простейший вопрос: qui prodest[5 - Кому это выгодно? (лат.).]? Кому было выгодно лелеять сонм кошмарных историй о сумасшедших студентах, убивающих старух, и о мрачных нигилистах, насилующих девочек? Кто заставлял миллионы россиян читать эти истории в школе, переписывать под диктовку, заучивать наизусть? Понятно, что народ не стал бы так истязать себя по собственной воле. Все это делала власть. Но тонкость в том, что власть и сама точно так же была отравлена идеями русских литературных «классиков» (Толстой воспевает рабство крестьян, Горький воспевает принудительный труд заключенных, Солженицын воспевает ГУЛАГ как место возрождения «исконной России»), увлечена заветами господ-сочинителей – и спешила воплотить эти заветы в агрессивной внешней политике (как кто-то заметил в эпоху Кризиса, «путь к военным преступлениям вымощен томами Достоевского»). Получалось, что вся наша огромная страна – от первого министра до последнего дворника – заложница горстки мертвых белых мужчин, бормочущих с того света зловещие призывы: «Иль нам с Европой спорить ново? / Иль русский от побед отвык? / Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, / От финских хладных скал до пламенной Колхиды, / От потрясенного Кремля / До стен недвижного Китая, / Стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская земля?» И, как неизбежное следствие, в 2022 году…
Тут раздается телефонный звонок, и Дмитрий Александрович отвлекается, чтобы ответить (какой-то «Федя» смущенно что-то спрашивает, о чем-то напоминает, а Уляшов его отечески успокаивает и обещает непременно перезвонить через пару часов).
Кириллу же приходит в голову простой, но совершенно резонный вопрос.
– Дмитрий Александрович, а вредна только русская литература?
– По всей видимости, Кирилл, только русская. Знаете, нам тоже сначала казалось странным (и даже невозможным) такое положение дел, что в целом мире – нормальные литературы, а в России – нет. Увы, строгий сравнительный анализ продемонстрировал, что отечественная словесность действительно выигрывает у всех остальных (и с огромным преимуществом) невеселое соревнование в испорченности, в умении воспевать пороки и славить самые худшие черты человеческого существа, в какой-то иррациональной тяге к подлости, гадости, разрушению и гибели. Знаете, даже шутка ходила в те годы: «Английская литература говорит: смерть ради долга; французская литература говорит: смерть ради любви; немецкая литература говорит: смерть ради величия; русская литература говорит: смерть». Я сам начинал как филолог и теперь понимаю, что именно из-за этой извращенной страсти к уничтожению, к поношению, к поруганию всего вокруг русская литература так откровенно плоха; я имею в виду – плохо написана. Вы, Кирилл, правильно заметили – в ней напрочь отсутствует гармония. Человеческое чувство прекрасного требует правила и закона, требует логики и минимальной связности; мы привыкли, что сильные ходы улучшают позицию, а слабые ухудшают, что накопление мелких преимуществ неизбежно приводит к преимуществам решающим, что правильная координация фигур бывает гораздо важнее материального перевеса, что истинная красота заключается в экономии средств и в согласованности действий. Ничего этого не найти в так называемых шедеврах русских писателей; там только путаница, бардак и хаос. Положим, литература и в принципе не слишком интересное искусство, но я, например, с удовольствием перечитываю многих европейских авторов. Взять хоть Джейн Остин: ясность, внятность, соразмерность; вроде бы простые, но при этом полные скрытого яда ходы – «It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife»[6 - «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену» (Дж. Остин, «Гордость и предубеждение». Пер. с англ. И. Маршака).] – как лучшие партии Анатолия Карпова! Или Флобер: стилистически отточенный, разящий наповал реализм, напоминающий манеру зрелого Роберта Фишера – «Nous еtions ? l’Еtude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillе en bourgeois et d’un gar?on de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se rеveill?rent, et chacun se leva comme surpris dans son travail»[7 - «Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему „новичка“ и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий» (Г. Флобер, «Госпожа Бовари». Пер. с фр. Н. Любимова.).]. Вот действительно – шедевры! А что такое, скажем, Достоевский? Поединок пьяных второразрядников, которые путают короля с ферзем, забывают правила рокировки, роняют на пол фигуры и в конце концов лупят друг друга по головам – доской, часами, шахматным столиком. И хорошо еще, если рядом не окажется топора.
* * *
– Каисса, что ж это! Как я всем сегодня нужен!
Экскурс в зловещие бездны русской литературы вновь прерывается телефонным звонком: теперь не «Федя», а «Ваня». Но в этот раз Д. А. У. уже не удается обойтись обещаниями: собеседник довольно ловко втягивает Уляшова в обсуждение каких-то скучных вопросов, связанных с кадровыми перестановками в университете, с грядущим совещанием у ректора и так далее. (Редкое занудство звонящего и вроде бы знакомые интонации в трубке заставляют Кирилла подозревать, что под именем «Ваня» скрывается не кто иной, как Иван Галиевич. Везде Абзалов! Придется ждать (и наверняка долго), пока он отцепится от Дмитрия Александровича, терять зря темпы.) Впрочем, есть компенсация: можно выпить предложенного черного чая (с сахаром!) и обдумать услышанное.
Интересная получается линия.
Ни в школе, ни в университете Кириллу никогда не рассказывали о том, что главной причиной Кризиса была художественная литература. Молчаливо подразумевалось, что империализм обитал в русском народе всегда – подобно какому-нибудь вирусу вроде герпеса – и периодически приводил к эксцессам, войнам, уродливым нарывам у границ сопредельных стран; также подразумевалось, что избавиться от этого вируса удалось лишь благодаря строжайшей терапии – которой и стало в итоге Переучреждение России (новая Конституция, столетний Карантин, «санитарный пояс», проложенный через Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Псковскую области, внешнее управление госфинансами и прочее). И вот вдруг выясняется, что вирус создавался и культивировался в книгах писателей, что именно Пушкин и Лермонтов виноваты в постыдной болезни, несколько веков снедавшей Россию. Впрочем, среди нынешней молодежи и фамилий-то таких почти никто не слышал («что за Пушкин?»): жизнь как-то сама собой огибала домен словесности, и надо было обладать крайне специфическим набором интересов, чтобы однажды открыть томик стихов условного Афанасия Фета. По всей видимости, после той общенациональной дискуссии о вреде литературы, инициированной Зыряновым, россияне сделались намного разборчивее – а остальное оказалось делом техники. Жернова времени способны перемолоть любую напасть; прошли годы, десятки лет, и деструктивные тексты сочинителей тихо скончались, захлебнувшись собственной желчью, навсегда остались в темном мрачном прошлом – и не могли отравлять настоящее и будущее страны.
(Здесь Кирилл чувствует эгоистичную, совсем не благородную, но от того еще более сильную радость: хвала Каиссе, он родился уже в новой, нормальной России, ему не пришлось (как пришлось Дмитрию Александровичу) жить в докризисную эпоху, когда детей заставляли читать Достоевского, черное называли белым, по улицам ходили строем и каждый день планировали высадку десанта в Риге и ракетный удар по Тбилиси.
То ли от этой радости, то ли от съеденного сахара хочется вдруг вскочить с табурета, запеть, может быть, песню, выбежать, танцуя, во двор – ну или хотя бы распахнуть окна, за которыми плывет холодный и теплый, ледяной и цветочный апрель.
Как волшебно вокруг!
Наконец-то выход из всех цугцвангов и анабиозов! Весна, что твоя проходная пешка, марширует к победе, и ничто не в силах остановить ее марш. Снова суета, толкотня, планы проснувшейся жизни. Вечер ласков и густ, и зачем в нем какая-то наука, какая-то культура, какая-то политика, когда надо просто пойти гулять? Дышать сумерками, прислоняться к деревьям, смотреть, как сидят на железных крышах облезлые коты, как сияют над Смольным собором огромные звезды, как во всех парках города пенсионеры, милиционеры и студенты-младшекурсники играют в шахматы (пуля, блиц; мельканье рук и фигур; падение повисших флажков). «У кого слоны, тому принадлежит будущее», учили классики, и Кириллу кажется, что сейчас он владеет всеми слонами мира. И мир этот прекрасен. Вдоль улицы Шумова действительно шумно от галдящих птиц (скворцов?); в тесных дворах близ «Таймановской» – первые чудо-крокусы, а еще дальше, на Воскресенской набережной Невы, где редкие фонари и автомобили, – сотни рыбаков, добывающих корюшку.
Перелететь бы реку, оказаться на милой Петроградской стороне; что там делает Майя? Известно, что: готовит весенний ужин (аккуратно перебирает гречневую крупу, щиплет перышки зеленого лука, растущего в банке на подоконнике). Майины родители много работают и появляются дома ближе к ночи, так что домашние хлопоты на Майе – как и контроль за Левушкой, младшим братом, заканчивающим второй вроде бы класс.
Неглупый мальчик, учится в знаменитой гимназии имени А. К. Толуша.
(Многие бы позавидовали, да.
Уж там-то, конечно, не просто заучивают наизусть («К четвергу „Нимцович – Капабланка“, партия в Нью-Йорке (1927 год), чтобы от зубов отскакивало»), там с самого начала не скучно, а, наоборот, весело – и поэтому хочется узнавать новое.
Входит в светлый класс учитель: «Здравствуйте, дети! Сегодняшний урок мы начнем с очень простого вопроса: задумывались ли вы когда-нибудь, почему в шахматах „каждой твари по паре“? Я имею в виду – каждой фигуры. Почему у игрока именно две ладьи, два слона, два коня? Почему не три? Или не один? С чем это связано? Итак, давайте запишем нашу новую тему: „Чатуранга – предшественница шахмат“». И этим же вечером Левушка, уплетая гречку с луком, восторженно рассказывает Майе, что, оказывается, когда-то в Индии на доске-аштападе соревновались не два, а сразу четыре игрока, и их фигуры располагались по четырем углам, и в каждом комплекте было по четыре пешки и по одному слону, коню, ладье и королю. И еще там бросали игральные кости, выбирая, кем именно ходить, и не существовало матовой идеи, и так далее, а когда начали играть вдвоем, то соседние комплекты соединили – так и получилось восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи на каждого; а второй король стал визирем (ферзем), и потому был слабее короля – ходил на одну клетку по диагонали (но память о его королевском прошлом сохранилась, и даже в Европе нападение на ферзя долгое время требовали объявлять – специальным словом «гарде?» (подобно тому, как нападение на короля объявляют словом «шах»)).
(Старшая сестра, разумеется, могла бы объяснить Левушке, что это на самом деле только одна из нескольких теорий происхождения шахмат, и не очень убедительная, хотя ее создатель, Дункан Форбс, был человеком великим, но ученые до сих пор спорят, и единого мнения нет – возможно, все ровно наоборот, сначала играли вдвоем, а потом разделили фигуры на четверых; однако Майя молчит и улыбается – не надо пока усложнять позицию, главное, что у брата такие интересные уроки и хорошие учителя.
(У Кирилла таких не было; все сам, по книжкам.)))
Потом Левушка идет делать домашнее задание, а Майя моет посуду; субботний вечер переходит в ночь… Стоп, почему субботний? Сегодня же воскресенье. Все перепутал! Совершенно точно: воскресенье. Значит, у Левушки нет занятий в школе, и родители не на службе, и Майя свободна от приготовления ужина. Тогда, возможно, она вообще сейчас не дома, ушла гулять или в гости к Ноне. Оу, у Ноны всегда веселье: чай, вино, какие-то молодые люди, очень любезные (и очень неприятные). А вдруг там и Брянцев?! (Все-таки странная фигура этот Брянцев. Учится он или работает? Или вообще бездельничает? Скорее всего, последнее. Рассказывают, ходит по всем вечеринкам, пьет как Алехин в худшие годы, лезет к людям с оскорблениями – и больше всего любит издеваться над культурой, этакий вроде нигилист. Бравирует тем, что никогда не читал шахматных книг; но правда ли не читал? Кирилл помнит, как сидели однажды у Ноны, обсуждали с гостями последние идеи в анти-Грюнфельде (придуманный в двадцатых годах XXI века выпад белой пешки h на третьем ходу, делающий неудобным 3…d5 за черных; маневр считался давно опровергнутым, списанным в архив – и вдруг кто-то обнаружил в нем новые ресурсы; сразу же пошли статьи, доклады на конференциях), и презирающий шахматы Брянцев, отпуская шуточки и постоянно требуя водки, как-то между прочим продемонстрировал выдающуюся осведомленность обо всех теоретических новинках в этом варианте (а ведь некоторые из новинок даже не были на тот момент нигде опубликованы!), и на справедливый вопрос, откуда он знает такие тонкие линии, ответил, что тут и знать ничего не надо, все очевидно («любой осел поймет»). И дело даже не в самом анти-Грюнфельде; уверенные рассуждения Брянцева наводили на мысль, что он вообще прекрасно понимает любые закрытые дебюты; но как такое возможно? Для этого надо быть глубоко погруженным в академические исследования, работать на какой-нибудь из аналитических кафедр, а Брянцев, разумеется, ни малейшего отношения к академии не имел и иметь не желал. Может быть, какой-то хитрый розыгрыш, обман? (Вот это вполне в его стиле.) Но какими затуманенными глазами смотрела тогда на Брянцева Майя…
Э-э, чертов вертопрах!
И нравятся же такие пижоны девушкам.
Впрочем, все с ним ясно, нет никаких загадок. Точнее, только одна загадка: почему Брянцева вообще принимают в приличных компаниях, пускают на порог? Ведь очередное же циничное животное, которое целыми днями пьянствует, гуляет, ничего не делает, тратит родительские деньги и жестоко высмеивает любую работу на благо страны и общества.)
При мысли о том, что Майя действительно может быть вместе с Брянцевым, что Брянцев в этот самый момент пытается произвести на нее впечатление своими дешевыми фокусами и сальными шутками, Кирилла охватывает беспокойство.
Он достает сотовый и набирает номер.
Гудки.
Гудки.
Гудки.
Никто не отвечает.
Гудки.
Чем она занята?
(Увлеченный Д. А. У. не готов размениваться на новости из ООН.)
– Тогда, Кирилл, все это никак не называлось, просто разные политические события, и только лет через тридцать (как раз Ваня Абзалов стал моим аспирантом) публицисты придумали особый термин: «Переучреждение России». Смешно: сегодня Переучреждение воспринимается как что-то безусловно хорошее и светлое, как начало новой, правильной, справедливой жизни, но в 2020-е годы большинству наших сограждан так не казалось. Ведь надо было платить репарации – и огромные! Получалось, что если все население страны, считая стариков и детей, будет работать по двенадцать часов семь дней в неделю на протяжении пятидесяти лет – Россия и тогда не расплатится до конца. Поэтому победители полностью конфисковали золотовалютные резервы и установили внешний контроль над финансовой политикой Правительства. Ввели жесточайшие обязательства по продаже нефти, газа, металлов, алмазов, древесины и прочего. Внутри страны, разумеется, austerity[3 - Строгая экономия (англ.).], режим тотальной экономии. (Вы наверняка читали, что в докризисной России почти у всех были «смартфоны», такие гибриды мобильных телефонов и компьютеров (с моментальным выходом в интернет); теперь невозможно, слишком дорого, плюс, я уже сказал, дедигитализация, запрет на вычислительные мощности. Но вообразите другое: раньше в двери не стучали. Применялись электрические звонки. О них тоже пришлось забыть. А как же, атомная энергетика уничтожена, половина теплоэлектростанций в простое (газ и нефть идут принудительно на экспорт) – первое время свет на три часа в день включали, батареи не топили.) Продукты только по талонам. Словом, Кирилл, уровень жизни рухнул после Переучреждения потрясающе. И вроде вся страна трудится, а слишком тяжело: логистика, бухгалтерия, планирование, управление производством – до Кризиса это делалось с помощью компьютеров; после (и до сих пор) – практически вручную. Все медленно, что твой шатрандж. Каисса, банальное отсутствие гражданской и грузовой авиации в такой огромной стране, как Россия, замедляет экономический рост кратно.
– Выходит, Дмитрий Александрович, этакое извечное vae victis[4 - Горе побежденным (лат.).]? И населению было бы гораздо лучше, если бы Россия не проиграла ту войну Западной коалиции?
– Глупости, Кирилл! За некорректные ходы наказывают, а Россия тогда совершила слишком много некорректных ходов (зачем надо было пугать весь мир термоядерными боеголовками?). Да, расплата оказалась тяжелой, зато мы встали наконец на верный путь – путь свободы и процветания, мирного развития, добрососедских отношений. Впрочем, – Уляшов делает драматическую паузу, – в том варианте был опасный изъян.
– Изъян?
– Большинство экспертов по обе стороны границы полагали, что принятых в процессе Переучреждения мер вполне достаточно для того, чтобы навсегда купировать «имперский синдром» России, сделать ее нормальной страной, не пытающейся постоянно кому-то угрожать, что-то завоевывать и так далее. Но существовала группа интеллектуалов (и я принадлежал к их числу), уверенных, что реформы не должны ограничиваться политикой. Пресловутый «русский империализм», по нашему общему мнению, таился не только и не столько в головах отдельных правителей – искать его надо было где-то еще. В конце концов, решающее значение имели не ядерный арсенал и не высокие цены на нефть, позволявшие докризисной России тратить миллиарды на армию; агрессивная имперская политика велась ведь и раньше, задолго до изобретения баллистических ракет и нефтяных фьючерсов. И значит, полагали мы, в самом начале России новой, в этом многообещающем дебюте, уже затаилась ошибка – и если ее не выявить и не устранить, то никакой Парламент, никакой Карантин не уберегут нашу родину от страшных рецидивов империализма. Так, Кирилл! Требовалось обнаружить и решительной рукой вырвать корень зла.
* * *
Будь у Кирилла чуть больше кулинарного опыта, он бы оценил, как замечательно сочетается «корень зла» с черным крепким сладким краснодарским чаем, предложенным Уляшовым. Но у Кирилла такого опыта нет, и он, слушая Д. А. У., наоборот, совершенно забывает о клетчатой кружке, грустно остывающей на ферзевом фланге стола.
А «корень зла» тем временем господствует в центре (беседы).
– Нельзя сказать, Кирилл, чтобы наша группа представляла собой какой-то очень могучий think tank; нас было не слишком много, а сами идеи, разрабатываемые нами, высказывались и раньше (Элиф Батуман об этом писала и другие). Но зарубежные эксперты плохо ориентировались в новом российском контексте, а люди внутри страны гораздо больше думали о физическом выживании; так и вышло, что, кроме нас, обозначить проблему оказалось некому. Главную роль сыграли в той истории мои старшие товарищи – академик Леонид Афанасьевич Зырянов (специалист по русской филологии) и экономист Виктор Альджернонович Туркин (как раз избранный премьер-министром посткризистого Правительства); они и объяснили всем популярно, что не так с Россией и с русским народом, откуда лезет империализм. Анализ ими был проведен безжалостный и бесстрашный, максимально нелицеприятный; результаты тогда многих шокировали. М-м, извините меня, Кирилл, за странный вопрос, но – пробовали ли вы когда-нибудь читать русскую художественную литературу XIX или XX века?
Вопрос действительно странный, но Кирилл, и в самом деле листавший какие-то из книг той эпохи, решает воспользоваться случаем и щегольнуть познаниями.
– Да, Дмитрий Александрович, приходилось. Помню, у Льва Толстого в «Войне и мире» интересный дебютный ход: герои говорят на двух языках сразу, и выходит такая смесь «французского с нижегородским», как Пушкин шутил. Но в целом, конечно, совершенно некорректные вещи. Никакой логики передвижений; никакой внутренней необходимости: действие может повернуть в какую угодно сторону безо всяких последствий для произведения в целом (будто бы так и надо!); фигуры плохие, планы неясные, масса темпов тратится непонятно на что, единственная выявляемая стратегия автора – полный произвол (впрочем, это объяснимо, ведь автор один: как хочу, так и ворочу; солипсизм в чистом виде, да). Словом, я не удивлен, что теперь такие, хм, «творения» никто не читает. Скучно, натужно, тяжеловесно. Некрасиво. И главное: необязательно.
– Прекрасно сформулировали, Кирилл, по-капабланковски (просто и сильно)! Но, видите ли, настоящая беда заключалась совсем не в том, что российские авторы создавали скучные натужные тексты, которые сегодня почти невозможно читать. Ладно бы, и пускай бы не читали. Так ведь наоборот – читали, и преусердно (поверите ли мне?). Вот где трагедия, дорогой Кирилл! Читали всем домом, всем миром, всей страной, читали десятилетиями и столетиями, и преподавали в школах, и заучивали наизусть, и цитировали повсеместно, и исследовали, растрачивая на это народные деньги, и славили на любые возможные лады, и называли в честь писателей и поэтов пароходы, и аэропорты, и целые города, и ставили на площадях памятники, а если появлялся вдруг иной светлый ум и вопрошал, зачем же такое читать и тем более прославлять, так его подвергали остракизму, гнали с позором и не подавали руки. Но книги-то и были виновны в Кризисе.
– Книги?!
– Это научный, достоверно установленный факт, Кирилл. Увы! Именно через сочинения литераторов входили в умы россиян расхлябанность и необязательность, презрение к элементарной логике и к минимальному порядку, пренебрежение строгостью мыслей; входила вера в собственную исключительность («Умом Россию не понять!») и любование дикой, разрушительной силой («Да, скифы мы, да, азиаты мы!»); входила, в конце концов, темная страсть к экспансии, к расширению, к захвату: сначала – чужого внимания, чуть позже – чужих умов и душ, в итоге – чужих территорий и стран. Теперь об этом забыли, как о страшном сне, а ведь в начале XXI века русская литература была самым настоящим культом, Кирилл; зловещим, как оказалось, культом. Потребовалось поражение в войне, потребовались Кризис и Переучреждение России, чтобы мы – все российское общество – раскрыли наконец глаза и честно и непредвзято взглянули на те якобы «великие произведения», которые сочиняли Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Горький и иже с ними и которыми нас учили восхищаться, уверяя, что все написанное прекрасно, и разумно, и правильно. Что же мы увидели, перечитав? Оригинальные мысли? Любопытные сюжеты? Беспристрастный самоанализ? Как бы не так! Только империализм, шовинизм, ненависть к другим народам и странам. Толстой откровенно восхищался мощью русского оружия, державшего в ужасе Европу после 1812 года, Лермонтов славил жестокое завоевание Кавказа, Пушкин воспевал подавление Польши и агрессию против Швеции. Знаменитый поэт Бродский оправдывал применение напалма в колониальных войнах, потому что «горные племена» не очень-то тянут на людей: «Все меню баранина да конина, никогда не видели пианино». А теории Достоевского о том, что русский человек «имеет право» убить кого угодно, а консервативные идеи Солженицына, а провластные стихотворения Тютчева! (Популярная поэтесса Анна Ахматова – как доказал со всей ясностью филолог Жолковский – вообще была, ни много ни мало, Сталиным в узкой юбке, тоже строила «культ личности», применяла террор и так далее.) Словом, все эти авторы, которых мы по наивности считали «честью и совестью нации», являлись на самом деле тривиальными пропагандистами на зарплате у государства, проводниками и апологетами имперского мышления. А еще – глашатаями антисемитизма (помню гоголевские проклятия в адрес «рассобачьих жидов»). И гомофобии (знали бы вы, как русские писатели измывались над великим Мишелем Фуко: «Что по ту сторону добра и зла / так засосало долихоцефала? / Любовник бросил? Баба не дала? / Мамаша в детстве недоцеловала?»). И мизогинии: «Я научила женщин говорить / Но, боже, как их замолчать заставить!» (У того же Льва Толстого женщина – всегда только примитивная самка, которая, если ей повезет, станет машиной для деторождения, а если не повезет – неизбежно покончит с собой, бросившись под поезд.) Вы представляете, дорогой Кирилл, что происходит с людьми, когда им с младенчества вбивают в голову такие идеологемы?! И вот парадокс: любой человек может отказаться, например, от блюда, которое выглядит неаппетитным, несвежим или просто опасным для здоровья; однако жители России, прежде всего дети, на протяжении многих поколений не имели права отказываться от чтения текстов «великой русской литературы» – хотя от нее воротило ничуть не меньше. Куда там, мощнейшее давление: сразу объявили бы невеждой, выгнали бы из школы, выдали бы волчий билет, сделали бы парией, сломали бы жизнь. И я не преувеличиваю! Но от плохой еды вас просто вытошнит через полчаса, плохие же идеи подобны паразитам, подтачивающим организм на протяжении многих и многих ходов.
– Дмитрий Александрович, неужели это могло быть правдой?
– Увы, Кирилл – и какой нелегкой, тяжелой правдой. Первым на зловещую роль художественных текстов, на исходящие от них угрозы указал Леонид Афанасьевич Зырянов (сделав громкий доклад на третью годовщину Переучреждения); вслед за этим вопрос стали обсуждать в университетах, потом подключились журналисты – в итоге развернулась общенациональная дискуссия. И вскоре обществу стало очевидно, что все произведения русской литературы чрезвычайно токсичны, что она целиком – скомпрометированное поле, как сказал бы Арон Нимцович. Но за счет чего удавалось этому злому мороку так долго висеть над нашей родиной? За счет помощи властей, разумеется. Здесь нужно вспомнить, что у истоков отечественной словесности стояли аристократы и монархисты: Державин, Карамзин, Пушкин. Царям и тиранам всегда нужно идеологическое обоснование своего правления, и литература охотно давала такое обоснование, индоктринируя массы идеями «превосходства» и «богоизбранности» русских. На самом деле только этой мощнейшей идеологической индоктринацией и можно объяснить тот факт, что люди совершенно не замечали вопиющего вреда, наносимого их душам русской литературой. А ведь достаточно было задать простейший вопрос: qui prodest[5 - Кому это выгодно? (лат.).]? Кому было выгодно лелеять сонм кошмарных историй о сумасшедших студентах, убивающих старух, и о мрачных нигилистах, насилующих девочек? Кто заставлял миллионы россиян читать эти истории в школе, переписывать под диктовку, заучивать наизусть? Понятно, что народ не стал бы так истязать себя по собственной воле. Все это делала власть. Но тонкость в том, что власть и сама точно так же была отравлена идеями русских литературных «классиков» (Толстой воспевает рабство крестьян, Горький воспевает принудительный труд заключенных, Солженицын воспевает ГУЛАГ как место возрождения «исконной России»), увлечена заветами господ-сочинителей – и спешила воплотить эти заветы в агрессивной внешней политике (как кто-то заметил в эпоху Кризиса, «путь к военным преступлениям вымощен томами Достоевского»). Получалось, что вся наша огромная страна – от первого министра до последнего дворника – заложница горстки мертвых белых мужчин, бормочущих с того света зловещие призывы: «Иль нам с Европой спорить ново? / Иль русский от побед отвык? / Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, / От финских хладных скал до пламенной Колхиды, / От потрясенного Кремля / До стен недвижного Китая, / Стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская земля?» И, как неизбежное следствие, в 2022 году…
Тут раздается телефонный звонок, и Дмитрий Александрович отвлекается, чтобы ответить (какой-то «Федя» смущенно что-то спрашивает, о чем-то напоминает, а Уляшов его отечески успокаивает и обещает непременно перезвонить через пару часов).
Кириллу же приходит в голову простой, но совершенно резонный вопрос.
– Дмитрий Александрович, а вредна только русская литература?
– По всей видимости, Кирилл, только русская. Знаете, нам тоже сначала казалось странным (и даже невозможным) такое положение дел, что в целом мире – нормальные литературы, а в России – нет. Увы, строгий сравнительный анализ продемонстрировал, что отечественная словесность действительно выигрывает у всех остальных (и с огромным преимуществом) невеселое соревнование в испорченности, в умении воспевать пороки и славить самые худшие черты человеческого существа, в какой-то иррациональной тяге к подлости, гадости, разрушению и гибели. Знаете, даже шутка ходила в те годы: «Английская литература говорит: смерть ради долга; французская литература говорит: смерть ради любви; немецкая литература говорит: смерть ради величия; русская литература говорит: смерть». Я сам начинал как филолог и теперь понимаю, что именно из-за этой извращенной страсти к уничтожению, к поношению, к поруганию всего вокруг русская литература так откровенно плоха; я имею в виду – плохо написана. Вы, Кирилл, правильно заметили – в ней напрочь отсутствует гармония. Человеческое чувство прекрасного требует правила и закона, требует логики и минимальной связности; мы привыкли, что сильные ходы улучшают позицию, а слабые ухудшают, что накопление мелких преимуществ неизбежно приводит к преимуществам решающим, что правильная координация фигур бывает гораздо важнее материального перевеса, что истинная красота заключается в экономии средств и в согласованности действий. Ничего этого не найти в так называемых шедеврах русских писателей; там только путаница, бардак и хаос. Положим, литература и в принципе не слишком интересное искусство, но я, например, с удовольствием перечитываю многих европейских авторов. Взять хоть Джейн Остин: ясность, внятность, соразмерность; вроде бы простые, но при этом полные скрытого яда ходы – «It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife»[6 - «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену» (Дж. Остин, «Гордость и предубеждение». Пер. с англ. И. Маршака).] – как лучшие партии Анатолия Карпова! Или Флобер: стилистически отточенный, разящий наповал реализм, напоминающий манеру зрелого Роберта Фишера – «Nous еtions ? l’Еtude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillе en bourgeois et d’un gar?on de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se rеveill?rent, et chacun se leva comme surpris dans son travail»[7 - «Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему „новичка“ и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий» (Г. Флобер, «Госпожа Бовари». Пер. с фр. Н. Любимова.).]. Вот действительно – шедевры! А что такое, скажем, Достоевский? Поединок пьяных второразрядников, которые путают короля с ферзем, забывают правила рокировки, роняют на пол фигуры и в конце концов лупят друг друга по головам – доской, часами, шахматным столиком. И хорошо еще, если рядом не окажется топора.
* * *
– Каисса, что ж это! Как я всем сегодня нужен!
Экскурс в зловещие бездны русской литературы вновь прерывается телефонным звонком: теперь не «Федя», а «Ваня». Но в этот раз Д. А. У. уже не удается обойтись обещаниями: собеседник довольно ловко втягивает Уляшова в обсуждение каких-то скучных вопросов, связанных с кадровыми перестановками в университете, с грядущим совещанием у ректора и так далее. (Редкое занудство звонящего и вроде бы знакомые интонации в трубке заставляют Кирилла подозревать, что под именем «Ваня» скрывается не кто иной, как Иван Галиевич. Везде Абзалов! Придется ждать (и наверняка долго), пока он отцепится от Дмитрия Александровича, терять зря темпы.) Впрочем, есть компенсация: можно выпить предложенного черного чая (с сахаром!) и обдумать услышанное.
Интересная получается линия.
Ни в школе, ни в университете Кириллу никогда не рассказывали о том, что главной причиной Кризиса была художественная литература. Молчаливо подразумевалось, что империализм обитал в русском народе всегда – подобно какому-нибудь вирусу вроде герпеса – и периодически приводил к эксцессам, войнам, уродливым нарывам у границ сопредельных стран; также подразумевалось, что избавиться от этого вируса удалось лишь благодаря строжайшей терапии – которой и стало в итоге Переучреждение России (новая Конституция, столетний Карантин, «санитарный пояс», проложенный через Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Псковскую области, внешнее управление госфинансами и прочее). И вот вдруг выясняется, что вирус создавался и культивировался в книгах писателей, что именно Пушкин и Лермонтов виноваты в постыдной болезни, несколько веков снедавшей Россию. Впрочем, среди нынешней молодежи и фамилий-то таких почти никто не слышал («что за Пушкин?»): жизнь как-то сама собой огибала домен словесности, и надо было обладать крайне специфическим набором интересов, чтобы однажды открыть томик стихов условного Афанасия Фета. По всей видимости, после той общенациональной дискуссии о вреде литературы, инициированной Зыряновым, россияне сделались намного разборчивее – а остальное оказалось делом техники. Жернова времени способны перемолоть любую напасть; прошли годы, десятки лет, и деструктивные тексты сочинителей тихо скончались, захлебнувшись собственной желчью, навсегда остались в темном мрачном прошлом – и не могли отравлять настоящее и будущее страны.
(Здесь Кирилл чувствует эгоистичную, совсем не благородную, но от того еще более сильную радость: хвала Каиссе, он родился уже в новой, нормальной России, ему не пришлось (как пришлось Дмитрию Александровичу) жить в докризисную эпоху, когда детей заставляли читать Достоевского, черное называли белым, по улицам ходили строем и каждый день планировали высадку десанта в Риге и ракетный удар по Тбилиси.
То ли от этой радости, то ли от съеденного сахара хочется вдруг вскочить с табурета, запеть, может быть, песню, выбежать, танцуя, во двор – ну или хотя бы распахнуть окна, за которыми плывет холодный и теплый, ледяной и цветочный апрель.
Как волшебно вокруг!
Наконец-то выход из всех цугцвангов и анабиозов! Весна, что твоя проходная пешка, марширует к победе, и ничто не в силах остановить ее марш. Снова суета, толкотня, планы проснувшейся жизни. Вечер ласков и густ, и зачем в нем какая-то наука, какая-то культура, какая-то политика, когда надо просто пойти гулять? Дышать сумерками, прислоняться к деревьям, смотреть, как сидят на железных крышах облезлые коты, как сияют над Смольным собором огромные звезды, как во всех парках города пенсионеры, милиционеры и студенты-младшекурсники играют в шахматы (пуля, блиц; мельканье рук и фигур; падение повисших флажков). «У кого слоны, тому принадлежит будущее», учили классики, и Кириллу кажется, что сейчас он владеет всеми слонами мира. И мир этот прекрасен. Вдоль улицы Шумова действительно шумно от галдящих птиц (скворцов?); в тесных дворах близ «Таймановской» – первые чудо-крокусы, а еще дальше, на Воскресенской набережной Невы, где редкие фонари и автомобили, – сотни рыбаков, добывающих корюшку.
Перелететь бы реку, оказаться на милой Петроградской стороне; что там делает Майя? Известно, что: готовит весенний ужин (аккуратно перебирает гречневую крупу, щиплет перышки зеленого лука, растущего в банке на подоконнике). Майины родители много работают и появляются дома ближе к ночи, так что домашние хлопоты на Майе – как и контроль за Левушкой, младшим братом, заканчивающим второй вроде бы класс.
Неглупый мальчик, учится в знаменитой гимназии имени А. К. Толуша.
(Многие бы позавидовали, да.
Уж там-то, конечно, не просто заучивают наизусть («К четвергу „Нимцович – Капабланка“, партия в Нью-Йорке (1927 год), чтобы от зубов отскакивало»), там с самого начала не скучно, а, наоборот, весело – и поэтому хочется узнавать новое.
Входит в светлый класс учитель: «Здравствуйте, дети! Сегодняшний урок мы начнем с очень простого вопроса: задумывались ли вы когда-нибудь, почему в шахматах „каждой твари по паре“? Я имею в виду – каждой фигуры. Почему у игрока именно две ладьи, два слона, два коня? Почему не три? Или не один? С чем это связано? Итак, давайте запишем нашу новую тему: „Чатуранга – предшественница шахмат“». И этим же вечером Левушка, уплетая гречку с луком, восторженно рассказывает Майе, что, оказывается, когда-то в Индии на доске-аштападе соревновались не два, а сразу четыре игрока, и их фигуры располагались по четырем углам, и в каждом комплекте было по четыре пешки и по одному слону, коню, ладье и королю. И еще там бросали игральные кости, выбирая, кем именно ходить, и не существовало матовой идеи, и так далее, а когда начали играть вдвоем, то соседние комплекты соединили – так и получилось восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи на каждого; а второй король стал визирем (ферзем), и потому был слабее короля – ходил на одну клетку по диагонали (но память о его королевском прошлом сохранилась, и даже в Европе нападение на ферзя долгое время требовали объявлять – специальным словом «гарде?» (подобно тому, как нападение на короля объявляют словом «шах»)).
(Старшая сестра, разумеется, могла бы объяснить Левушке, что это на самом деле только одна из нескольких теорий происхождения шахмат, и не очень убедительная, хотя ее создатель, Дункан Форбс, был человеком великим, но ученые до сих пор спорят, и единого мнения нет – возможно, все ровно наоборот, сначала играли вдвоем, а потом разделили фигуры на четверых; однако Майя молчит и улыбается – не надо пока усложнять позицию, главное, что у брата такие интересные уроки и хорошие учителя.
(У Кирилла таких не было; все сам, по книжкам.)))
Потом Левушка идет делать домашнее задание, а Майя моет посуду; субботний вечер переходит в ночь… Стоп, почему субботний? Сегодня же воскресенье. Все перепутал! Совершенно точно: воскресенье. Значит, у Левушки нет занятий в школе, и родители не на службе, и Майя свободна от приготовления ужина. Тогда, возможно, она вообще сейчас не дома, ушла гулять или в гости к Ноне. Оу, у Ноны всегда веселье: чай, вино, какие-то молодые люди, очень любезные (и очень неприятные). А вдруг там и Брянцев?! (Все-таки странная фигура этот Брянцев. Учится он или работает? Или вообще бездельничает? Скорее всего, последнее. Рассказывают, ходит по всем вечеринкам, пьет как Алехин в худшие годы, лезет к людям с оскорблениями – и больше всего любит издеваться над культурой, этакий вроде нигилист. Бравирует тем, что никогда не читал шахматных книг; но правда ли не читал? Кирилл помнит, как сидели однажды у Ноны, обсуждали с гостями последние идеи в анти-Грюнфельде (придуманный в двадцатых годах XXI века выпад белой пешки h на третьем ходу, делающий неудобным 3…d5 за черных; маневр считался давно опровергнутым, списанным в архив – и вдруг кто-то обнаружил в нем новые ресурсы; сразу же пошли статьи, доклады на конференциях), и презирающий шахматы Брянцев, отпуская шуточки и постоянно требуя водки, как-то между прочим продемонстрировал выдающуюся осведомленность обо всех теоретических новинках в этом варианте (а ведь некоторые из новинок даже не были на тот момент нигде опубликованы!), и на справедливый вопрос, откуда он знает такие тонкие линии, ответил, что тут и знать ничего не надо, все очевидно («любой осел поймет»). И дело даже не в самом анти-Грюнфельде; уверенные рассуждения Брянцева наводили на мысль, что он вообще прекрасно понимает любые закрытые дебюты; но как такое возможно? Для этого надо быть глубоко погруженным в академические исследования, работать на какой-нибудь из аналитических кафедр, а Брянцев, разумеется, ни малейшего отношения к академии не имел и иметь не желал. Может быть, какой-то хитрый розыгрыш, обман? (Вот это вполне в его стиле.) Но какими затуманенными глазами смотрела тогда на Брянцева Майя…
Э-э, чертов вертопрах!
И нравятся же такие пижоны девушкам.
Впрочем, все с ним ясно, нет никаких загадок. Точнее, только одна загадка: почему Брянцева вообще принимают в приличных компаниях, пускают на порог? Ведь очередное же циничное животное, которое целыми днями пьянствует, гуляет, ничего не делает, тратит родительские деньги и жестоко высмеивает любую работу на благо страны и общества.)
При мысли о том, что Майя действительно может быть вместе с Брянцевым, что Брянцев в этот самый момент пытается произвести на нее впечатление своими дешевыми фокусами и сальными шутками, Кирилла охватывает беспокойство.
Он достает сотовый и набирает номер.
Гудки.
Гудки.
Гудки.
Никто не отвечает.
Гудки.
Чем она занята?