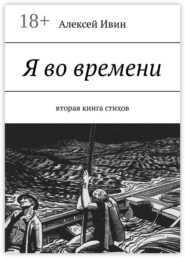По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исчезновение. роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дождь был, конечно, необыкновенный: старожилы такого не видели лет тридцать. Наползла с юга черная смурая туча; ни ветра не было, ни каких других предвестий грозы. Я в это время сидел у себя в кабинете. Вдруг сразу потемнело и громыхнуло так, что на столе пресс-папье подскочило; ну, и я тоже вздрогнул. Потом часто-часто забарабанило по стеклу и потекло грязными, зеленовато-бурыми струями. Я подумал, что в окно комком грязи бросили: были и такие среди моих врагов, которые могли подобным образом выразить свое презрение; а может, просто ребятня. Пока я к окну подходил, оно уже совсем побурело, ничего за ним не видать, – все равно как в общественной уборной, когда его краской замазывают, чтобы с улицы не было видно, кто мочится. Подхожу и открываю настежь. Бог ты мой! В нос сразу ударило запахом жидкого навоза, а глаза, губы и нос залепило чем-то терпко пахучим. Стою недоуменный, не понимаю, что к чему, а потом, когда обтерся и на руки взглянул, понял, что коровье дерьмо, натуральное, только пожиже. Но все еще глазам не верю; руки понюхал – и точно: навоз, так и разит скотным двором. Белую рубашку и костюм выходной, единственный, – все унавозил, по телу течет, гадко, противно. Отшатнулся – с рук стекает на пол, а на улице, вижу, черт те что творится: люди бегут врассыпную, лиловато-зеленые, прячутся кто где, на автобусной остановке жмутся под зонтиками, как овцы, из водосточной трубы на асфальт хлещет навозная жижа, а по тротуару, совсем растерянная, сгорбленная, семенит старушонка: идет-идет, на небо посмотрит, обмаранное лицо вытрет ладошкой, перекрестится и опять идет, мокрая, жалкая: платок у нее к волосам прилип, изгаженный, с сизым отливом, как крыло жука-навозника. Машины хлюпают по липкой мостовой, колеса пробуксовывают в дерьме, а напротив моего окна, там, где многоэтажный жилой дом, какая-то хозяйка неглиже выскочила на балкон и давай снимать позеленевшие простынки, а мне видно, как ее голые руки залепляет жидкий навоз, тинистый, прилипчивый. Не кажется ли мне все это? Но гром гремел, люди разбегались торопливо-скользкими прыжками, низвергались желтовато-серые, как застойная моча, потоки дождя, пахло густо, головокружительно, да и сам я, обмаравшийся с головы до ног, пах как конюх, – все это было очень уж явственно. Дождь лил три часа, пока тротуары не превратились в реки коровьей мочи, пока все дома не побурели, как старые грибы, а я все смотрел, время от времени суя пальцы в рот, чтобы выблеваться, и не мог оторваться от этого смрадного зрелища. И вот примерно через два часа после того, как начался этот невиданный дождь, какого долгожители не помнят лет тридцать, по улице, зарываясь буфером в желтую волну, проехали, завывая сиренами (хотя сторониться было некому: движение прекратилось), две пожарные машины, которые, как я потом узнал, направлялись в микрорайон, потому что там одна, еще молодая женщина, впав в истерическое состояние, вскарабкалась на карниз девятиэтажного дома и, прокричав оттуда: «Люди! Конец света пришел, молитесь!» – прыгнула вниз, но зацепилась юбкой за прутья балкона и повисла, как сонная летучая мышь. Через три часа дождь оборвался, выглянуло тихое умытое солнце, и ласковая тишина водрузилась над городом, как стяг. На следующий день городской исполнительный комитет назначил массовый субботник по благоустройству территории, а местная газета, отпечатанная на бумаге цвета детского поноса, сообщила читателям, что неслыханный дождь, а затем и кратковременное наводнение не принесли городу значительного материального ущерба и человеческих жертв и что сегодня, писала газета, труженики города вновь встали на вахту по достойной встрече тридцать восьмой сессии городского исполнительного комитета. Газета сообщила также о том, что причина столь редкого явления природы заключалась в следующем: в соседнем районе на животноводческую ферму в две тысячи голов обрушился сильный вихрь, который поднял в воздух десять тысяч кубометров навоза и мочи из открытого жижесборника (причем железобетонные стены и дно оказались вычищены досуха): аккумулировавшись в грозовую тучу, содержимое колхозного жижесборника пролилось затем на город в виде дождя, и ничего удивительного или сверхъестественного в этом нет: подобные случаи наблюдались и прежде в некоторых странах мира.
Так вот, после этого дождя на следующий день Дина пришла ко мне (я опять сидел в кабинете, готовясь к отчетному докладу на предстоящей сессии исполнительного комитета); и я понял, что, очевидно, с Савелием что-то случилось. Она еще с порога спросила, не приходил ли он, я сказал, что нет, пригласил ее сесть и попросил рассказать, что произошло. Оказывается, получив картоны, он каждый вечер после работы садился рисовать, рисовал ее и ребенка, пятимесячного Максима, пейзажи с тихими речками и заходящим солнцем («Пейзажи, – сказала она, – мне больше всего понравились»), рисовал две недели, каждый вечер, запоем, вместо того чтобы помочь ей по хозяйству. Как-то раз она послала его полоскать выстиранные ползунки, он пошел, но вернулся злой, и они поругались: она упрекала его в том, что он не хочет ей помочь и, следовательно, не любит, а он кричал, что ненавидит все это, и ползунки, и этого засранца Максима, и драные обои, и трухлявые стены, и ее, уж если на то пошло, потому что все это мешает ему заниматься творчеством, а между тем в нем, может быть, пропадает Ван-Гог, и что в конечном счете смысл жизни в том, чтобы выразить себя, освободившись от всяческих пут, и что она, заставляя его стирать, носить воду и все такое прочее, становится поперек его дороги, а раз так, то он лучше разведется, чем станет жить под одной кровлей с человеком, который не хочет ему добра; а она отвечала, что ей тоже хочется быть свободной, почитать книгу или посмотреть фильм и что он, видно, этого не понимает, эгоист, себялюбец, белоручка, – а он возражал, размахивая руками, что лучшие из жен вообще должны понять, что приносят себя в жертву, когда вступают в брак, и это естественно, а если она не согласна быть жертвой, то пусть убирается, он не станет ее удерживать; оба кричали, ребенок ревел, как саксофон, и вся сцена была очень шумной, а потом они целый вечер не разговаривали, и он, насупленный, опять рисовал деревенские виды, но у него получалось плохо, блекло, поэтому он сердился, рвал рисунки и швырял их в помойное ведро. Вот так они и маялись две недели, ни на йоту не уступая друг другу. И тут она упрекнула меня за то, что я дал ему эти злосчастные картоны, но я сказал, что не предвидел последствий и думал, что эти его художнические поползновения скоро пройдут. Полагая, что она пришла затем, чтобы я больше ничего ему не давал, я извинился и обещал ей это, но она сказала, что это еще не все, и продолжала. За день до дождя они примирились, и она воспользовалась этим, чтобы отправить его в домоуправление похлопотать насчет квартиры. Он ушел. А вечером возвратился с работы необычайно угрюмым, таким она его еще не видела; ничего не объясняя, хотя она его спрашивала, переоделся, надев свитер и джинсы, как всегда, когда уходил на рыбалку; она сказала, чтобы он никуда не уходил: сегодня надо купать Максима, а завтра идти на работу, и вообще, почему это он решил удирать из дому не только в выходные, но и в будни, может, у него любовница завелась, а если так, пусть лучше совсем уходит. Он на это ничего не ответил, только поцеловал Максима в лобик, как целуют покойников, и она опять удивилась, потому что раньше он почти не проявлял отцовских чувств. Ни слова не говоря, он вышел и (она увидела из окна) направился к сараю: там у него хранились рыболовные снасти, – а через минуту показался опять, неся удочку и топор. Увидев, что он несет топор, она очень испугалась, так что ноги затряслись в коленках, выбежала на улицу и, бросившись ему на шею, завопила, что пусть он убьет только ее, а Максимку не трогает; а он оттолкнул ее и сказал: «Дура!»; и тогда она подумала, что он хочет себя порешить, и опять завопила, чтобы он этого не делал, а он сурово посмотрел и сказал: «Почему?» Тут с ней случился то ли обморок, то ли еще что, но, в общем, она ничего не помнит; помнит только, что очнулась на кровати, а он сидел возле и давал ей нюхать пузырек с нашатырным спиртом, а когда заметил, что она очнулась, опять, ни слова не говоря, встал и ушел. И больше она его не видела. А на следующий день начался этот ливень, и она не смогла выбраться из дому, потому что все затопило; пила валерьянку и нянчилась с Максимом, решив, что он сразу после рыбалки ушел на работу. Но он не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Поэтому она пришла сюда, подумав, что он, может быть, здесь: он здесь часто бывает.
– Я не знаю, что теперь делать, – заключила она.
– Он взял топор и удочку? – спросил я.
– Да.
– И рисовал деревенские виды?
– Да.
– Я постараюсь его найти, Дина.
Глава шестая, от Савелия
Летом купаться было негде. Всюду, в самых глубоких местах, воды было по колено; даже в Дальней Ляге, глубоком плесе, которое находилось в двух километрах от деревни, и там намело столько песку, что образовался бархан, выпирающий из воды. А купаться хотелось. И мы решили строить запруду.
Натащив лопат и топоров, мы принялись копать дерн и рубить колья в перелеске. С самого утра, с девяти часов, припекало так, что приходилось время от времени мочить голову в реке, чтобы охладить темя. Дерн был вялый, луговой, кое-где еще влажный, потому что там, где мы копали, весной разливалась старица, которая высыхала нескоро, к середине лета, заглушенная купальницами и осокой. Мамай и Васька орудовали в лесу; было слышно, как стучат топоры. Вовка тоже порывался идти с ними, но ему не разрешили, а копать землю он не хотел – лежал на солнечном пригорке, подстелив рубаху на сплошной ковер кошачьих лапок, и демонстративно загорал.
– Мы тебя не пустим купаться, – враждебно сказал Мамай, деловито таща из перелеска кривые колья.
– Ха! Не пустите! Сейчас Гришка придет, тогда и посмотрим, пустите или не пустите.
Гришка был старший брат Вовки.
– Не боимся мы твоего Гришки.
– Забоитесь. Он сейчас тоже придет строить запруду. Я ему скажу, что вы меня не пустили. Он вам покажет.
– Ну и говори, ябеда!
Через полчаса пришли остальные деревенские ребята, Вовка еще немного покобенился для приличия, но не выдержал общего осуждения и принялся подносить дернины к берегу, складывая их там. Я устал копать, стерев руки до крови. Вовка заменил меня, а я стал оттаскивать тяжелые пластушины. Пот валился градом. Солнце пекло. Во рту пересохло.
После небольшого перекура на пригорке (все затянулись по одному разу) было решено начать перекрытие. Мамай забрел в воду на быстрине, – берега в этом месте были высокие, – и стал забивать посредине русла первый кол. Ему помогали советами:
– Ты от берега начинай – чего ты посередке вышел!
– Да ты другой кол возьми, покрепче!
– Глубже забивай! Дай-ка я, ты не умеешь!
– Может, там камень, на дне-то. Надо было посмотреть.
Мамай, серьезный, огрызаясь на замечания, бил и бил сверху обухом; первая свая шла туго. Нетерпеливые прыгали в воду, деловито расшатывали кол.
– Слабо забил. Большая вода будет – всю запруду унесет.
У берега, путаясь в осоке, Гришка забивал уже второй кол. Было решено перегородить реку двумя параллельными рядами кольев, а в середину набросать дерну и утрамбовать. Работа кипела. Замутилась вода, взбаламученная множеством ног. Берег стал липким от воды и грязи. Кряхтя, высунув языки, нам помогали малыши: возились с дернинами, прижимая их к животам; по ногам и пипкам текла жидкая грязь.
– Куда ты прешь, дурак! – кричал на кого-то Мамай. – Смотри, всю дернину переломал, такая была хорошая дернина.
Наконец колья были забиты плотной изгородью, вода сердито пробегала в узких щелях. Начали перекрытие. Работали несмекалисто, нерасчетливо: каждый, с трудом да кое-как, выходил на берег, брал дернину и, тужась, на ягодицах съезжал обратно, чтобы уложить ее собственноручно и затоптать. Несколько кольев перекосились, сбитые в сутолоке. Клочки земли, оплетенные травянистыми корнями, уносились по течению. Вода то тут, то там подтачивала запруду, течь по верху она не хотела. Но мы бросали и затаптывали, бросали и затаптывали. Перед запрудой встревоженная прибывающая вода ходила вкруговую, а сзади вытекала тоненькой струйкой: там сделалось необычайно мелко. Мы торжествовали победу. Дерна уже набросали вровень с берегами: колья торчали как раз настолько, чтобы при переходе на другой берег за них можно было ухватиться. Я ежеминутно сновал туда – обратно ради удовольствия почувствовать под ногами упругое тело плотины. Вода прибывала. Перепачканные, усталые, мы живо обменивались замечаниями насчет того, какая будет глубокая вода, не сделать ли обводной канал, не прорвет ли запруду, как много будет рыбы в верховьях, а может, и не будет, потому что ей ведь надо подниматься с низу, а запруда помешает…
Солнце палило нещадно. Решено было искупаться. С жару и с поту мы ныряли друг за другом, и каждый, выныривая и отплевываясь, шумно восторгался, что стало глубоко. Нашли место, где скрывало с головой; все ходили туда мерить и орали. Валерка, полуодетый, стоял на берегу: он трусил купаться. Васька, с мокрым, чистым, радостным лицом, брызгал в него водой и грозил:
– Сейчас выйду – сброшу в одежде.
– Я сам сейчас буду купаться, только разденусь…
– Трус ты!..
Мамай выскочил на берег и, лоснящийся, жирный, тряся толстыми дряблыми мышцами, злорадствуя, схватил Валерку.
– Васька, ну-ка помогай – сейчас мы его искупаем!
Ваське было жаль Валерку, но он подчинился. Они схватили его под руки и поволокли; Валерка упирался, извивался и плакал, а на берегу поскользнулся и упал в воду, увлекая за собой обидчиков. Слегка захлебнувшись, очумелый, долго откашливался, а когда выполз на берег, растерянный, в мокрых прилипших штанах, выглядел жалким и брошенным, как курица под дождем.
Вовка, густо перемазавшись глиной, изображал индейца: он вопя бегал по берегу и метал березовую вицу, отточенную спереди, стараясь, чтобы она воткнулась.
Вода уже переливала через верх запруды, бежала лугом, растекалась по высохшей старице. Пока Мамай, как жирный боров в луже, ворочался в плесе, подминая и топя малышей, вода подкралась к его одежде, замочила рубаху и залилась в ботинок.
Я купался в сторонке, потому что боялся расходившегося Мамая: я был мальчик робкий, тихий и трусливый. На середину плеса я не выходил, потому что там стало глубоко, да и вода была желтой, перебаламученной с донным песком. Я выплывал вверх по течению на чистую воду, ложился на спину и, скосив глаза, чтобы не напороться на берег, медленно перебирая ногами, чтобы только держаться на поверхности, тихо плыл один. Все то, что делали другие, я тоже любил делать, но не на виду, а тайно, втихомолку, наслаждаясь внутри себя, без горделивых криков, без показных прыжков с нырялки, без суеты и спешки. Я плыл в незамутненной чистой воде, руки то и дело задевали стрельчатые, острые листья осоки, со дна, щекоча тело, поднимался потревоженный холодный ил. Я проплывал всю протоку до следующего плеса, но там мне опять становилось страшно при виде коряг, разбросанных по дну и проросших темно-зеленой тиной. Я боязливо возвращался на саженках туда, в коричневую муть, туда, где ошалело бегали по берегу, бултыхались, вздымая брызги, кричали, играли в пятнашки.
Глава седьмая, от Савелия
По берегам реки на всем ее протяжении росли черемухи. По вечерам в мае, когда травянистую пойму заливало мглой и купы деревьев рисовались темными призраками, я спускался к реке, чтобы постоять над тихой водой. Последние звуки плавали в благорастворенной тишине – сонный крик птицы, скрип колодезного барабана. Воздух пах черемуховым цветом; над водой этот запах был густой и мокрый, он садился на лицо, как распыленный пульверизатором цветочный настой, и щекотал ноздри. Я шел мокрым лугом к запруде и в перелеске, пугаясь шорохов, находил низкорослую черемуху; я ломал цветущие ветки, осыпаясь лепестками, и, сложив букет, погружал туда свой нос. Пахло чудно. То ли счастливый, то ли грустный, я возвращался домой огородами, потому что идти с букетом по улице стыдился. Прокрадывался в спящий дом, боясь скрипнуть половицей, воровски, на цыпочках пробирался на кухню, на ощупь находил в посуднике стеклянную банку, наливал в нее воды и ставил цветы. Они смутно, печально белели в сером сумраке.
Утром, просыпаясь, я глазами искал их на подоконнике и не обнаруживал: мать выбрасывала их на помойку, потому что от них болит голова.
Глава восьмая, от Савелия
В августе мы с Вовкой часто убегали к запруде, но не затем, чтобы искупаться (вода становилась уже холодной), а чтобы поесть созревшей черемухи. Встав под черемухой, мы задирали головы вверх: там золотились желтыми блестками черные крупные ягоды.
– Я полезу вот на эту.
– А я вон на ту – на той больше ягод.
– На нее не залезть.
– Не залезть? В два счета!
Я, поплевав на руки, обнимал гладкий ствол и лез до первой развилки; там располагался поудобнее и спрашивал торжествующе:
– Ну что? Вот и залез.
Я был мастер лазить по деревьям и телеграфным столбам. Вовка вскарабкивался на соседнюю черемуху, и мы, рассевшись на близких ветвях, ели ягоды и перебрасывались замечаниями.