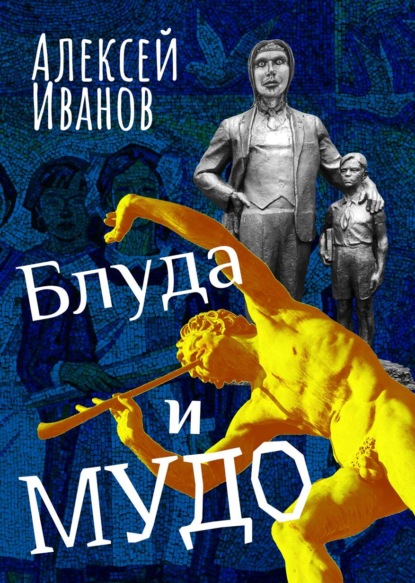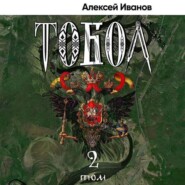По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блуда и МУДО
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты пошёл уже, да? – спросила Алёна. – А триста рублей-то не дашь? Ты же обещал…
За исключением зефира в шоколаде, в мире больше не существовало вещи, об которую Моржов не смог бы открыть бутылку пива. Он шаркнул бутылкой по фонарному столбу, и пробка, звеня, покатилась по тротуару. Моржов сунул горлышко бутылки себе в рот, словно приставил подпорку к падающей Пизанской башне.
…Он поступил хитро: вернулся к себе в общагу и прошёл через вахту, где обстоятельно поговорил с вахтёршей о тонкостях ревматизма, затем громко хлопнул дверью своей комнаты. А в комнате он достал из-под матраса пистолет, сунул его за ремень и бесшумно вылез через окно в палисадник.
На улице давно стемнело. Моржов стоял за акациями с пивом и пистолетом и семантически чем-то походил на гипсового Павлика Морозова. Над акациями вразнобой горели окна общаги. За углом здания чернел Пряжский пруд, весь в лунной чешуе.
Моржов терпеть не мог всех этих страданий и обид, всех этих рефлексий и терзаний. Он просто не выносил себя в состоянии бурного душевного смятения. Ему претило лежать, молчать и терпеть, как тому спартанцу, у которого лисёнок пожирал потроха. Моржов предпочитал при первом же укусе растирать лисят подошвой по половице, а укус обезболивать и дезинфицировать. Пусть алкоголь выжжет все мысли и воспоминания.
Доктор, который заколдовал Моржова от пьянства, предупреждал о всяческих страшных последствиях выпивки: инсульт, инфаркт, паралич, импотенция. Инсульт и инфаркт Моржов отрицал как псевдонаучные угрозы; паралич представлялся ему чем-то незначительным вроде лёгкого ушиба; а вот импотенции, судя по всему, можно было уже не бояться – с ней и без выпивки проблем не имелось. И Моржов, выбравшись из сауны, купил пива.
Приобщившись к высокому искусству через «Староарбатскую биеннале», Моржов иногда размышлял о взаимоотношениях творчества и реальной жизни. Вот судьба: она строится по законам драматургии или всё же как попало? Моржов всё более склонялся к приоритету драматургии. Выстраивая свою судьбу, человек не имел иной инструкции, кроме той, которую настрочил Аристотель. (Кстати, строительство судьбы означало вкладывание своей субъективной воли в объективную жизнь, а это довольно сильно смахивало на половой акт.) Получалось, что воля есть мера художественности в жизни человека (а судьба есть половой акт с жизнью). И главными сюжетами художественности всегда были три вещи, прославленные ещё хиппи: секс, дрэгс, рок-н-ролл.
Секс у Моржова имелся только что (ну и пусть вместо блуда получилась блуда), дрэгса он купил по пути и купит снова сколько надо. Оставался рок. Вообще-то кодировка посадила рок на цепь, и теперь рок разве что при оплошности Моржова мог цапнуть хозяина за пятку. Но Ахилл из Моржова был хилый, поэтому рок оставался неудовлетворённым. А ему хотелось побегать на воле, поиграть с Моржовым в свою любимую игру – в орлянку. Моржов пожалел свой рок и решил нажраться – пустить рок погулять. Если рок, сидя на цепи, зачахнет, Моржов, пожалуй, действительно рискует схлопотать инсульт, инфаркт или паралич. Так что внезапное пьянство Моржова оказывалось не только субъективным мазохизмом – сублимацией Алёнушкиного свинства. Пьянству нашлось и объективное оправдание: самоспасение. Органичность сочетания объективного и субъективного вселяла в Моржова ощущение правильности избранного пути.
Стоя за акацией, Моржов вытащил из-под ремня ПМ и с натугой передёрнул затвор. Это был очень голливудский жест. Мало, мало в жизни голливудства, не хватает его народу. Недостаток голливудства приходилось компенсировать бессмысленными действиями – например, щёлканьем затвора. Так же, как своё фиаско с проституткой Моржов компенсировал образцовым фаллическим символом – пистолетом.
Моржов спрятал ПМ, вышел из-за угла общаги и пошагал по улочке вдоль пруда. Звёздная и неровная ночь была как горячая радужная тьма после самого сладкого любовного содрогания. Тёплая земля лежала, словно разворошённая постель: Семиколоколенная гора – как продавленная подушка, Чуланская гора – как отброшенное и смятое в ком одеяло. В изнеможении распростёрся Пряжский пруд; изгиб отражённого месяца казался вмятиной от женского колена. Природа повсюду растеряла любовные черты, будто захмелевшая девчонка, раздеваясь, раскидала по комнате свои вещи: фонари бульвара Конармии – как бусы на столе, два купола Спасского собора – как лифчик на спинке стула, лакированной туфелькой блеснула иномарка в проулке, и даже лужи под ногами лежали как забытые под кроватью трусики.
В сквере у набережной Моржов услышал грубые мужицкие голоса подростков и неумелый девчоночий мат. Моржов притормозил и повертел головой, чтобы блеснули очки. Наживка была тотчас проглочена.
– Мужик, стоять! – донёсся из скверика хамски-хозяйский окрик. – Сюда подошёл!..
Эх, голливудство-голливудство… Голливудский символ Америки – обаятельный и респектабельный президент, ручкой помахивающий толпе из открытого лимузина, а в окне окрестного небоскрёба торчит мрачный и тощий тип со снайперской винтовкой у плеча. А символ города Ковязина – пьяные подростки с глумливым окриком «Мужик, стоять! Сюда подошёл!», и дальше по-шакальи – сзади и все на одного.
Моржов допил пиво из бутылки (не пропадать же продукту), присел и разбил бутылку об асфальт, а дальше с «розочкой» в кулаке молча бросился к скверику.
Подростки сообразили не сразу, но потом с воплями и девчоночьим визгом дружно прыснули прочь, топоча по кустам. Моржов, как Кинг-Конг, запрыгнул на скамейку, но вокруг уже было пусто, лишь под луной изумлённо колыхался сигаретный дым. Моржов швырнул вслед ублюдкам «розочку» и в досаде плюнул: чёртова привычка самообороны, как же он забыл про «пэ-эм»? На хрена он тогда покупал пистолет, если всё равно бутылки бьёт?
Озлобленно почёсываясь, Моржов вырулил обратно к набережной и пошагал в сторону плотины, где светился коробочек круглосуточного ларька.
Моржов набрал бутылок пива в полиэтиленовый пакет, подумал и прямо у прилавка накатил пластиковый стаканчик водки. Водка была крепкая и дорогая, словно её гнали из слёз поп-звёзд. Но Моржова всё достало. Пускай его ероплан срывается в штопор.
Едва Моржов чуть-чуть отошёл от ларька, его шумно и мощно вытошнило прямо в Пряжский пруд. Сказалось, блин, долгое отсутствие практики. Моржов подумал и выбрал в девиз правило Щёкина: «Брать – так литр!» Он упрямо вернулся в ларёк, прополоскал горло минералкой и педантично повторил процедуру с водкой. Водка злобно шлёпнулась на дно желудка жгучей медузой и больше не шевелилась, сидела тихо и обречённо, таяла.
От ларька Моржов пошёл вверх по Колхозной улице. Судя по мёртвым фонарям и фасадам, которые своим разнообразием напоминали очередь в травмпункт во время гололёда, улицу следовало бы звать Бесхозной. С неё Моржов свернул на улицу Героя Рыбакова. Моржов не знал, какую амбразуру закрыл своей орденоносной грудью герой Рыбаков (генерал, как гласила мемориальная табличка), поэтому для себя называл улицу именем Героя Робокопа. Про Робокопа Моржов знал всё с детства, и Робокоп действительно был герой.
Улица Робокопа была хаотически выхвачена из тьмы фрагментами финансово успешных территорий. Горели редкие витрины магазинов и вывески офисов, озаряя куски тротуара, вымощенные разноцветной плиткой. Над долгими перебежками тьмы в лунной мгле клубились тополя и тускло бликовали маленькие окна вторых этажей. Окна полуподвалов печально глядели снизу вверх из ям, забранных решётками. Казалось, что сейчас оттуда протянутся бледные руки с раскрытыми ладонями, на которые требуется положить милостыню. Отражая луну, навзничь, как убитые, на дороге лежали плоские лужи.
Моржов шагал, пил пиво, курил и глядел в перспективу улицы, ребристой и фигурной. Как бы ни обветшал неухоженный город Ковязин, в его старине не было убожества. Подсвеченные луной и витринами, все фронтончики, мезонины, кокошники, эркеры, сандрики и лопатки разнобойных особнячков, суммируясь, складывались в образ незримой Триумфальной арки, что во тьме стояла над Ковязином.
Это была победа мужского начала человечества над женской податливостью пространства и природы. Моржов считал, что зодчество по характеру своего предъявления изначально неискоренимо мужское. Оно молодцевато выпячивало широкие груди ризалитов, брутально выдвигало челюсти балконов, напрягало вздутые мускулы колонн и натягивало сухожилия пилястров, по цоколям было расчерчено на прямоугольники, будто накачанный брюшной пресс, бесстыже развешивало каменно-тяжёлые и пышные гроздья капителей и барельефов. Вся анатомия зданий была выставлена напоказ именно с мужской наглостью бани, а вовсе не скрыта с женской стыдливостью улицы. Женской архитектурой были пещерные города и пирамиды, каналы и хтонические лабиринты метрополитенов. А внешний мир был мужским, но в Ковязине – обшарпанным и надтреснутым, словно бы мужчина довольно долгий срок отмотал на зоне и совсем оскотинился. Трахая, он натирал, драл и царапал. Без смазки вроде выпивки никто его уже не хотел.
Ещё, кстати, бывала смазка типа «любовь», но Моржов на такое не рассчитывал. Ему не повезло: никогда никакие женщины его не желали. Всех, что у него были, он взял сам. А впрочем, возможно, что напор Моржова просто обгонял скорость созревания женских вожделений. Но Моржов всеми этими примерками и соображениями никогда не заморачивался. Он считал, что вместо любви ему вполне достаточно голливудства.
Моржов аккуратно поставил пустую бутылку возле мятой железной урны – бомжи подберут – и откупорил новую.
…Как было в кино «Красотка»? Молодой, но состоятельный Ричард Гир, холостой и очень добрый, снимал проститутку. Моржов тоже был молод, очень добр, холост, упрощённо говоря – состоятелен и в принципе не так уж плох собою (если не считать трусов с бледно-синими крокодильчиками). У Гира проститутка оказывалась красивой, как Джулия Робертс, но грубоватой и вульгарной, зато в душе – нежной, ранимой и обиженной. Так, блин, и у Моржова случилось!.. Проститутка отдавалась Гиру с неподдельным жаром, потому что драматургически это выглядело идеально. Моржов считал себя достаточно волевым человеком, чтобы его половой акт с жизнью превратился в драматургическую судьбу. Выходит, что он, как тот Гир, тоже заслужил сладкое.
А драматургия почему-то вывернулась наизнанку. Девчонка явилась пьяная, не далась, выклянчила деньги, да ещё и оскорбила так, что Моржов ощутил себя слегка кастрированным. Причём именно в тот момент, когда он уже почти прокопал подземный ход в женский монастырь. Что-то в его жизни оказалось сильнее голливудства, драматургии и судьбы. И рок здесь был ни при чём.
Моржов яростно открыл пивную бутылку зубами, словно укусил себя за кандалы.
Конечно, и раньше у него случались провалы, позорища и обломы. Но они всегда лежали в русле драматургии. Во всяком случае, их всегда можно было интерпретировать как рок или судьбу. А с этой Алёной – шиш. Привычная логика не просто дала сбой, а вообще растворилась нигде. Можно было, разумеется, найти случившемуся десяток объяснений, но в данном случае любая причина нейтрализовалась контрдоводом.
Например, причина: девчонка устроила истерику и не далась, потому что устала и была пьяная. Контрдовод: не такая уж она была и пьяная, если не забыла про деньги; а если уж она помнила про деньги, то не стоило ей артачиться перед другом сутенёра. Да ведь и не первым же мужчиной был в её жизни Моржов! Следовательно, она должна знать, что сопротивление отнимает больше сил, чем покорность, – значит, не так уж она и устала.
Причины и контрдоводы уравновешивали друг друга. Эта зыбкая неустойчивость должна была нарушиться в ту сторону, куда толкал Моржов. А она нарушилась в противоположную сторону. И нарушиться подобным образом ей было не так-то просто, потому что напор Моржова был традиционно силён, хоть и мягок. Так что же стряслось? Что за чёрт вклинился в ситуацию?..
Моржов уже прошёл весь центр Ковязина и теперь шагал сквозь окраину. Кругом громоздились какие-то гаражи, сараи, заборы, штабеля труб, бараки, столбы, поленницы, трактора… Улица перепрыгивала через речку Пряжку, здесь ещё не разлившуюся прудом, и Моржов с удивлением понял, что не может пройти по мосту тротуаром. Тротуар оказался слишком узеньким. Моржов осторожно преодолел мост по осевой линии, для равновесия широко растопырив руки. В одной руке блестела бутылка, а в другой, на которой висел пакет, дымилась сигарета.
…Моржов давно догадался, что Кризис Вербальности лишил мир цели. На хрена она нужна, если за неё можно выдать что угодно? К тому же есть куча разнообразных наркозов, с которыми не только про адекватность, но и вообще про реальность можно забыть. Поэтому мир не таков, каким его делают, а таков, как это делание происходит. Сверхценность цели сдрейфовала на средства. Облик мира определяется не степенью приближения к идеалу, а способом мышления, формулирующего идеал, который ни практически, ни теоретически совершенно не нужен. Как городу Ковязину для комфорта совершенно не нужен стиль провинциального классицизма, в котором он выстроен, а нужны трубы, гаражи, поленницы, столбы, сараи…
Значит, блуда с Алёнушкой случилась не потому, что Моржов не учёл какой-то тайной цели Алёнушки, а потом удивился, что эта цель для неё оказалась важнее всего прочего. Блуда случилась благодаря трахнутым Алёнушкиным мозгам. И надо понять, что и как Алёнушку трахнуло, потому что Алёнушка – не одна. Впереди – Троельга, и там Милена, Розка, Соня… Моржов не хотел снова попасть в блуду. Если он не докопается до причины, то и в Троельге не получит ничего, кроме импотенции на нервной почве. А на хрена тогда ему свобода и деньги, если главная ценность будет недоступна? Но вопрос, на который Моржов хотел получить ответ, был адресован не к бабам, а к миру.
Моржов выбросил очередную бутылку и обнаружил, что осталась последняя. На обратный путь не хватит. Он уже вышел из Ковязина и стоял на обочине дороги, которая через поле и перелесок вела из города на большую федеральную трассу. Никто в Ковязин не ехал, и ждать тачку было глупо. Моржов вспомнил, что на съезде с трассы стоит круглосуточная кафешка для дальнобойщиков. Там можно хотя бы пивом затариться.
Хрустя гравием обочины, Моржов дошагал до кафе. На стоянке перед ним светлела единственная «девятка». В её раскрытом окошке краснел огонёк сигареты. Широкая трасса была туманна и пуста. За кюветами поднимался тёмный, неподвижный лес. Моржов стрельнул с пальца окурок и вошёл в кафе.
Продавщица, чем-то напоминавшая Анжелу из сауны, сидела за стойкой и смотрела телевизор. За боковым столиком обедали (или ужинали? или завтракали?) две молоденькие девчонки-проституточки. Они были из разряда «плечевых» – девочек для трассы. Хуже была только работа для «чёрных» на рынке, но там, как рассказывали Моржову шлюшки из саун, отирались в основном крепкозадые девки из деревень, которые вечерний секс на ящиках с помидорами совмещали с дневной торговлей с лотков.
Моржов осмотрел небогатую выставку пива на витрине.
– А чего приличного нет? – спросил Моржов. – Одно это, да?
– Другие не жаловались, – холодно ответила продавщица.
Моржов тотчас вспомнил, что эти «другие» так же ещё и в сауне при сексе не падали со стола. «Другие» явно устроились в жизни лучше, чем Моржов.
– Ладно, красавица, дай мне вон те две бомбы, – согласился Моржов. – Сдачи не надо.
Он сунул пластиковые бутыли в пакет, присел за столик и раскупорил свою последнюю бутылку, но вдруг услышал:
– Со своим у нас нельзя.
Это сказала продавщица. Моржов закрыл рот и посмотрел на неё. Женщина она была яркая, но затёртая, как старые джинсы. Видимо, стать такой продавщицей, Анжелой из сауны, и было самым благополучным финалом жизни девчонок вроде тех, что сидели направо от Моржова. Девчонки тоже глядели на него.
– Я же купил пару «титек», – удивлённо возразил Моржов.
– Со своим у нас всё равно нельзя, – поколебавшись, раздражённо повторила продавщица.
– Слушай, давай без морали, – попросил Моржов. – Тебе какая разница? Я ведь не курю тут, не плюю, не блюю. Отдохну и пойду.
Он воткнул горлышко бутылки в рот и тотчас чуть не подавился, потому что одна из девчонок закричала:
– Ты чо тут наглеешь? Тебе сказали – нельзя!
Моржов откашлялся и ответил: