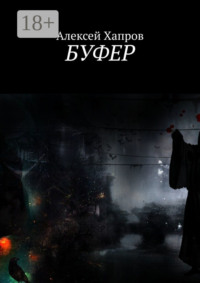Наследник. Книга вторая
– Вы готовы дать мне в этом письменную расписку?
– Разумеется, – выразил свою готовность я.
Вернув мне паспорт, переписав перед этим все его данные, и приняв от меня вышеупомянутую расписку, отец Ираклий, подытоживая, произнёс:
– Я принимаю вас трудником. Вы знаете, что такое трудник?
Я помотал головой.
– Нет, не знаю.
– У нас принято говорить: не ведаю, отче.
– Не ведаю, отче, – исправился я.
– Давайте, я вам расскажу. Трудник – это самая первая ступень в нашей монастырской иерархии, – принялся объяснять мне он. – Это время становления будущего монаха, время для его раздумий: действительно ли монашество – его призвание, или всё-таки нет. В период трудничества человек молится, исповедуется, постигает азы монашеской жизни и работает на благо монастыря. Чем выгоден статус трудника – так это, конечно, своей свободой. Поскольку никаких обетов у трудника нет, он может в часы досуга свободно покидать пределы монастыря. Вам тоже будет разрешено в досуг покидать пределы монастыря. Но при этом есть, правда, одно условие: перед уходом вам нужно будет испросить моё благословение. Теперь переходим ко второй ступени, – вальяжно сменил позу он. – Вторая ступень – это послушник. Послушник – это человек, который готовится к постригу в монахи и проходит предшествующее ему духовное испытание. По сравнению с трудником, он имеет уже гораздо меньше свободы. Послушниками становятся те, кто в период трудничества не усомнился в своём монашеском призвании. Обычно срок монашеского искуса, – это срок послушничества, – он составляет не менее трёх лет. Но так, вообще, у нас принято, что он определяется для каждого индивидуально… Следующая, последняя, третья ступень – это уже монах! – со значением произнёс отец Ираклий. – Монах – это уже непосредственный служитель Бога, и на него накладываются пожизненные монашеские обеты…
Подробно рассказав мне об особенностях жизни монахов, – пересказывать их здесь я, наверное, не стану; я думаю, это будет излишним, – настоятель мне сообщил, что моим наставником будет некий отец Гавриил.
– Он определит вас сейчас на постой, всё покажет вам, всё расскажет. Обустраивайтесь, осматривайтесь, изучайте наш распорядок. Ну, а завтра утром – прошу на работу, – и отец Ираклий пододвинул к себе телефон. – У вас ещё остались ко мне вопросы?
– Да, – смущённо улыбнулся я. – Не могли бы вы объяснить мне смысл одного понятия?
– Какого понятия?
– Епитимья.
– Епитимья? А где вы уже успели с этим столкнуться?
И я поведал ему о реплике, которой озадачил меня отец Киприан.
– Епитимья – это церковное наказание, – улыбнувшись, разъяснил мне отец Ираклий. – Ну а что касается вчерашнего случая, то одного из наших трудников застукали вчера с сигаретой в туалете…
Когда я вышел из настоятельского корпуса, мной вдруг овладела лихорадочная тревога.
А ведь настоятель был не дурак! А что, если он с ходу меня раскрыл?
Глава девятая
Меня поселили на втором этаже в келью номер двенадцать.
Должен признаться, что кельи Свято-Успенского Усть-Бардинского мужского монастыря меня в тот день приятно удивили. Ведь мои представления о монашеских кельях на тот момент формировались главным образом посредством художественных кинофильмов, – ну, «Имя Розы», например, – где действие происходит в средние века. Каково же было моё удивление, когда заместо пустой, увешанной распятиями и иконами унылой пещерки, – а именно такой мне и представлялась монашеская келья, – моим глазам предстал чистый и светлый двухместный номер вполне себе приличной современной гостиницы!
Да, Семён говорил мне, что в монастыре недавно сделали хороший ремонт. Но я всё же никак не ожидал, что этот ремонт и в самом деле окажется действительно хорошим!
– С вашим соседом по келье, – его зовут Богдан, – вы познакомитесь вечером, когда он вернётся с трудовой повинности, – сказал сопровождавший меня отец Гавриил.
Это был лет семидесяти, весьма проворный для своего возраста, маленький старичок с отдававшими некоторой хитрецой глазами, и с обрамлённым аккуратной остроконечной бородкой лицом аскета.
– Трудовая повинность – это то же самое, что в миру означает работа. Так она называется в монастыре, – разъяснил мне отец Гавриил, заметив появившееся на моём лице недоумение. – В монастыре существует ещё и другая повинность – это утренняя и вечерняя молитва. Она называется «молитвенное правило», – дополнил он «каталог прелестей» насыщенной жизни монастыря. – И все насельники обязаны его неукоснительно соблюдать. Утренняя молитва – в шесть утра, вечерняя – в пять часов вечера, – и мой наставник указал мне на висевший на двери распорядок. – Ну, а сейчас кладите свои вещи и пойдёмте дальше.
Я поставил свою сумку за спинку свободной кровати, – она была справа, прямо напротив двери, – и ещё раз обвёл глазами отведённое мне под пристанище помещение.
Чистенькая, аккуратненькая комнатка, примерно восемнадцать квадратных метров, лишь с самой необходимой мебелью – два шкафа, две кровати, два стула и стол.
Всё, что требуется для жизни, здесь есть.
А не занимал ли до меня это место Радик?..
– Этот корпус называется паломническим, – пояснил мне отец Гавриил, когда мы с ним вышли на улицу. – В нём проживают трудники, послушники, обслуживающий персонал, а также гости монастыря. Монахи в паломнических кельях не проживают. Для монахов у нас предусмотрены братские кельи, – и он указал мне на здание напротив.
Я невольно сравнил их между собой: оба кирпичные, двухэтажные, – но каких-то отличий найти не смог.
Я уточню, отличий лишь внешних!
Ну, разве братский корпус был только немного почище.
Белокаменный одноглавый храм и трёхуровневая, с открытой верхней площадкой, деревянная колокольня были единственными сооружениями комплекса Усть-Бардинского мужского монастыря, которые располагались в самом центре его, окружённой высоким забором, не шибко обширной, но всё же достойной того, чтобы называться просторной, территории. Остальные входившие в его состав постройки тянулись по периметру вдоль ограды. И первая из них, куда привёл меня отец Гавриил, встретила меня запахом свежесваренных щей.
Я сразу же понял, что здесь находятся трапезная и кухня.
Едва мы переступили через порог, как навстречу нам вышел какой-то обрюзгший монах. На вид – лет пятидесяти-шестидесяти. Он обращал на себя внимание тем, что имел какую-то бутылочную, я бы даже сказал, женскую фигуру.
– Доброго вам здоровья, отец Гавриил!
– Доброго вам здоровья, отец Исаакий! – склонил в ответ голову мой наставник.
Их приветствия прозвучали, вроде бы, вежливо и вполне дружелюбно, но мне всё равно показалось, что в голосе отца Гавриила сквозила какая-то скрытая неприязнь.
Показав мне трапезную, – я опишу её чуть позднее, в следующей главе, – отец Гавриил повёл меня в соседнее, хозяйственного назначения, сооружение, которое было разделено на несколько частей.
– Вот здесь мы храним наши продовольственные запасы, – стал показывать он, – вот тут у нас производственный инвентарь… вот здесь у нас деревообрабатывающий цех; кстати, ваш сосед Богдан работает именно в нём… вот это у нас гараж… а вот это у нас конюшня.
– У вас даже и машина имеется? – подивился я.
– Да, имеется, – мол, а что тут такого, подтвердил мой наставник.
– Фургон или бортовик? – поинтересовался я.
– Нет, легковая, – ответил отец Гавриил. – Это служебный автомобиль нашего настоятеля.
Наружу стали высовываться любопытные лица. Новые обитатели здесь появлялись не часто, и поэтому вполне естественным было то, что всем вдруг захотелось на меня взглянуть.
В глубине продовольственного склада метал «гром и молнии» отец Митрофаний. Объектом его недовольства был какой-то лохматый цыган. Звали этого цыгана Шандор.
Как я узнал чуть позднее, именно его как раз и застукали накануне с сигаретой в туалете.
Дальнейшее моё ознакомление с монастырём происходило уже в сопровождении монастырских собак. Полина и Борька, видимо, перестали воспринимать меня чужаком и, наряду с отцом Гавриилом, также стали моими экскурсоводами.
Если производственно-хозяйственный корпус был в монастыре самым большим, то следующее здание, куда привёл меня мой наставник, являлось, напротив, здесь самым маленьким.
Впрочем, это «здание» даже и зданием-то не назовёшь!
– А вот это наша фармацевтическая лаборатория, – протянул руку отец Гавриил и указал мне на стоявший в углу ограды сарайчик. – Здесь у нас изготавливаются целебные настойки и сборы. Но посторонним сюда вход категорически запрещён.
– А кто здесь считается посторонним? – осведомился я.
– Все, кроме нашего травника отца Ксенофонта и его помощника брата Паисия.
– Даже вы? – изобразил удивление я.
– Даже я, – кивнул отец Гавриил.
– И даже настоятель монастыря?
– Да, и даже отец Ираклий.
Собаки, словно в подтверждение сказанному, разродились недовольным лаем.
Я вгляделся в приоткрытую дверь «лаборатории» и заметил там невзрачного, седого монаха и его рыжеволосого молодого напарника. Они процеживали какой-то раствор.
Из сарайчика повеяло каким-то терпким и горько-кислым запахом. Я невольно поморщился. Запах был неприятный.
– Наши травяные настойки и сборы обладают уникальными целебными свойствами, – заявил не без гордости отец Гавриил. – К нам приезжают за ними даже из других областей. Мы даже стали их уже возить за границу!
– За границу? – вскинул брови я.
– Да, мы возим наши настойки в Финляндию. Благо граница отсюда совсем недалеко.
И тут меня как будто бы передёрнуло. Я вспомнил слова Семёна о выявленной Радиком контрабанде.
Значит, посторонним сюда вход запрещён! А не таится ли причина исчезновения Радика здесь?
Я засунул свои скрючившиеся пальцы в карманы, чтобы они не выдавали моего волнения: а не сосредоточена ли вся эта контрабанда в этой, вот, «фармацевтической лаборатории»?
Я отвернулся и сделал вид, что рассматриваю возвышавшуюся в стороне колокольню. Я обоснованно опасался, что мои мысли спроецируются на выражение моего лица.
Обогнув вдоль ограды всю территорию монастыря, – мне показали ещё монастырскую лавку, завели в часовню, провели вдоль заснеженного огорода и небольшого монастырского кладбища, – мы снова вышли к паломническому корпусу, сопровождаемые звонким лаем словно бы обрадовавшихся чему-то собак.
У входа в корпус стояли отец Ираклий и отец Киприан. Они негромко переговаривались между собой.
По моей спине пробежал настораживающий холодок. Мне показалось, что они как-то подозрительно на меня посмотрели…
Вернувшись в свою келью, я скинул ботинки, повесил на стул свою куртку и, не снимая ни свитера, ни брюк, улёгся на отведённую мне кровать.
Скоро всё равно идти на обед. Обед здесь начинался в четырнадцать часов. Стрелки показывали уже начало второго. Какой тогда был смысл переодеваться?
«Ну, и какие у нас итоги?» – закрыв глаза, спросил себя я.
Да какие тут, к чёрту, могут быть итоги? После нескольких-то часов пребывания в монастыре.
Но один итог всё же был – это зародившиеся во мне подозрения относительно «фармацевтической лаборатории».
Но куда, вот, подевался мой Радик?
Эх, был бы хотя бы хоть малейший намёк для ответа на этот самый главный и самый важный для меня вопрос!
В келье было тепло. В монастыре топили на совесть. Батареи были очень горячие, и я вскоре почувствовал, что стремительно погружаюсь в сон.
Из царства Морфея меня выдернули чьи-то отдававшие эхом шаги.
Когда считаешь обстановку враждебной, любые звуки способны породить лихорадочную тревогу.
– Можно?
У заглянувшего в келью облачённого в подрясник старца было настолько блаженное выражение лица, что создавалось такое впечатление, будто он только что спустился с небес.
Поправив свои роговые очки, он вопросительно уставился на меня.
Я слегка кивнул головой, но он на этот жест никак не отреагировал.
Позднее я узнал, что для разрешения войти мне просто следовало произнести: «Аминь». Но я тогда ещё не знал всех монастырских порядков. И старец, видимо, это понял. Потоптавшись ещё примерно с десяток секунд, он осторожно переступил через порог.
– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй нас, – перекрестился он на висевший в углу кельи Образ, после чего, повернувшись ко мне, представился: – Отец Амвросий, библиотекарь.
Положив на стол принесённую им с собой книгу, он пододвинул к себе стул, после чего уселся рядом со мной.
– Те, кто несчастен в жизни мирской, часто обретают счастье именно в святой обители! – нравоучительно произнёс он. – И отрешение от мирских забот для них есть отрешение от никчемной и опустошающей душу жизни.
Далее отец Амвросий разъяснил мне, что если я настроен посвятить остаток своей жизни служению Богу, то я должен для этого делать следующее:
– быть православным христианином;
– проникаться душою в богослужения и любить их;
– совершать утреннее и вечернее молитвенное правило (то бишь, молиться по утрам и вечерам);
– соблюдать духовный и телесный пост;
– чтить православные праздники;
– читать духовную литературу, повествующую о монашеской жизни и об истории монашества.
С этими словами он пододвинул ко мне принесённую им с собой книгу.
– Почитай, сын мой, для обретения душевного спокойствия и для осознания своего пути к Богу.
Это была старая потрепанная книга, на обложке которой значилось: «Житие Святых».
– Монашество есть удел сильных духом и телом, – взяв меня за руку, принялся читать проповедь библиотекарь. – Жизнь монаха не есть пренебрежение окружающим миром. Жизнь монаха есть отречение от плотских удовольствий, от грешных наслаждений и от всяких, там, пагубных страстей. Монашество – это тесная связь с Господом нашим, с Богом. Это тихая радость от общения с ним. Это восстановление первоначальной чистоты и безгрешности, которыми были наделены в раю Адам и Ева. Монахи, сын мой, это первые спасители нашего грешного мира! – воодушевлённо воскликнул он. – И пока звучит монашеская молитва, – и он, наконец, отпустил мою руку, – существует и весь наш грешный мир!
Отец Амвросий поднялся со стула, снова осенил себя крестным знамением, после чего вышел из кельи с гордо поднятой головой и тихонько притворил за собою дверь.
Глава десятая
Монастырская трапезная мне понравилась. Это был уже второй раз за несколько часов моего пребывания в монастыре, когда действительность превосходила мои ожидания: сначала кельи, а теперь, вот, трапезная. Просторно, уютно, светло. Массивные длинные столы, расположенные буквой «П»: главенствующий – для монастырского начальства, остальные – для прочей братии. Чистые накрахмаленные скатерти, широкие деревянные скамейки, разрисованные библейскими сценами стены.
Глядя на всё это, я почему-то вспомнил царские трапезные палаты из сказочных кинофильмов своего далёкого детства.
Единственное, что мне тогда показалось странным – это трибуна со сделанной в форме золотого орла подставкой для книг, стоявшая по правую сторону от главенствующего стола. К чему она здесь?
Но потом я узнал, что эту «трибуну» именуют амвон, и что с этой «трибуны» дежурный чтец декламирует фрагменты «Жития святых» во время трапезы. Ну, это чтобы монахи вкушали одновременно и физическую, и духовную пищу.
Я подошёл к трапезной без пяти минут два. Оповещением о начале обеда здесь служил издаваемый о железное било ритмичный стук.
К слову, такой же стук о железное било служил и оповещением по утрам о подъёме. Этим занимались дежурные насельники монастыря. В тот день дежурным был отец Феодор.
Постояв немного в сторонке и дождавшись, когда все рассядутся по местам, я примостился на самом краю примыкавшего к правой стене стола.
Я, как и все остальные люди, конечно, посещал детский сад, учился в школе, служил после школы в армии и, разумеется, знал, что такое коллективный обед. Но мне, честно говоря, оказалось в диковинку, что монастырский простой обед будет сопряжён с таким серьёзным, таким торжественным ритуалом.
Обед начинался здесь с краткой молитвы.
«Отче наш, Иже еси на небесях! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…».
После молитвы игумен ударял в колокольчик, чтец становился к амвону, все усаживались по местам, и с этого момента начиналась трапеза.
Обед в монастыре был постным. Щи, картошка, салат из квашеной капусты, компот из сухофруктов и хлеб.
Но каким же вкусным был здешний хлеб! В монастыре его выпекали сами. Я даже уже и не помнил, когда я в последний раз вкушал такого вкусного и такого ароматного хлеба.
После второго удара отца Ираклия в колокольчик, чтец завершал своё чтение, спускался с амвона и принимал благословение у настоятеля монастыря.
После третьего удара настоятеля в колокольчик, вкушение пищи сразу же прекращалось. Все как по команде поднимались с мест, и в трапезной звучал нестройный, но дружный хор:
«Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия…».
В тот день, во время молитвы, я вдруг ощутил на себе чьё-то пристальное внимание. В меня, ну, просто впился глазами отец Исаакий. И он как-то странно смотрел на меня.
Поймав на себе мой вопросительный взгляд, он засмущался и опустил глаза. Меня охватило тревожное недоумение. Что бы это могло значить?..
Послеобеденная молитва закончилась. Отец Ираклий стал справа от выхода с приподнятой рукой. Напротив него, по левую сторону, выстроились и склонили свои головы повар, чтец и трапезарий. Этим своим поклоном они как бы просили прощение за возможные прегрешения в своём служении: повар за то, что, может быть, невкусно приготовил; чтец за то, что, может быть, плохо читал; трапезарий за то, что, может быть, неловко подавал.
Вся монастырская братия стала выходить из трапезной по этому коридору и получать благословение настоятеля монастыря.
Я тоже получил его благословение, вернулся в отведённую мне келью, сразу же переоделся и, умиротворённый сытным обедом, погрузился в сладостный и крепкий сон…
Меня разбудил стук двери и тяжёлые, размеренные шаги. Я повернул голову. Моему взору предстал грузный, неряшливый пожилой бугай с одутловатой физиономией и редкими, давно не чёсанными волосами.
Достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что он прибился к монастырю не по наитию своей души, не ради того, чтобы общаться с Богом, а просто потому, что ему некуда было больше идти.
– Витаю (Приветствую; пер. с укр.), – усаживаясь на стул, буркнул он.
– Привет, – чуть приподнявшись, отозвался я.
– Ну что ж, давай знайомытыся. Богдан. (Ну что ж, давай знакомиться. Богдан; пер. с укр.)
– Евгений, – представился я, и мы обменялись лёгким рукопожатием.
– Значит, це тебе вызначилы на мисце Яшки? (Значит, это тебя определили на место Яшки; пер. с укр.)
– Какого-такого Яшки? – вопросительно свёл брови я.
– Та парубка, який тут жыв. Трудныка. Вин втик звидсы вже через тыждень. (Да пацана, который тут жил. Трудника. Он сбежал отсюда уже через неделю; пер. с укр.)
Мой сосед по келье говорил по-украински, но я, для вашего удобства, в дальнейшем буду излагать его фразы по-русски. Мне кажется, вам всё же так будет удобней. Ведь не все из вас знают украинский язык.
– Получается, что меня, – развёл руками я.
Я снова откинулся на подушку и закрыл глаза.
Ну что ж, вот появился ответ на первый из множества крутившихся в моей голове вопросов. Здесь до меня жил не Радик! Здесь до меня обитал некий Яшка!
Богдан, кряхтя, снял ботинки, забросил их в угол, после чего растянулся на своей койке.
– Фу-у-у! – устало выдохнул он.
Некоторое время мы лежали молча. Богдан, наверное, ожидал, что я заговорю с ним первым – логичная реакция ничего не знающего новичка на появление всё знающего старожила. Но в данном случае эта логика не сработала, и он решил проявить инициативу сам.
– Какими сюда судьбами?
Я немного помолчал, после чего, как бы нехотя, выдавил:
– Да так. Жизненные обстоятельства.
Снова возникла пауза.
– Я вижу, ты не охотник до разговоров, – прервал её, наконец, мой сосед.
– А что здесь говорить? – пробурчал я. – Здесь и говорить-то особо нечего.
Ох, сколько же мне стоило тогда усилий, чтобы удержать себя от рвавшихся из меня расспросов! Но требовалось соответствовать нужному образу. Я – сама апатия! Я – полностью потерявший жизненный смысл человек!
– Ну, на постриг ты явно не собираешься, – утвердительно проговорил Богдан.
– Там будет видно, – осторожно ответил я.
– Не похоже и на то, что ты после отсидки.
Я подтверждающе помотал головой.
– Тогда, получается, ты из распутья, – уверенно заключил Богдан. – Либо отрешиться от всего земного, либо накинуть петлю себе на шею. И ты, естественно, выбрал первое.
– Да, что-то типа того, – тяжело вздохнул я…
Придя в храм на вечернюю молитву, – она начиналась сразу же после ужина, – я почувствовал себя несколько неуютно. А почувствовал я себя так потому, что на церковных богослужениях мне до этого никогда бывать ещё не приходилось.
Нет, чисто по логике, я, конечно же, понимал, что на богослужении мне нужно будет молиться. Но молиться – оно ведь тоже нужно умеючи. А вот как это делать правильно – вот этого я как раз таки тогда и не знал!
– Не волнуйся, – сказал мне уловивший мою неуверенность отец Гавриил. – Просто делай всё то, что делают остальные. Когда все крестятся – крестись, когда все кланяются – кланяйся. Но самое главное, думай только о Боге! Если ты будешь думать о Боге, то душевное равновесие ты обретёшь гораздо скорей!
Я делал всё точно так, как он мне велел – стал позади всех и в нужные моменты кланялся и крестился. Но вот думать только о Боге у меня, ну, совершенно не получалось. Я думал только о Радике. А о Боге мне не думалось даже и в том числе.
Во время этого богослужения случилось одно происшествие, которое просто не могло не обратить на себя внимания.
В разгар молебного песнопения, когда вся братия смиренно складывала руки и блаженно закатывала глаза, отец Митрофаний вдруг свалился на пол и, точно подкошенный, стал извиваться в судорожных конвульсиях.
Но меня больше всего поразило не это. Меня больше всего поразило то, что на отца Митрофания в тот момент даже никто и не посмотрел.
Единственным, кто отреагировал на его падение, был стоявший рядом с ним отец Феодор. Он поднял своего друга с пола и, точно маленького ребёнка, вынес его на руках из храма.
Всё это равнодушие мне объяснил в тот же вечер Богдан.
– Так наш Митрошка же эпилептик, – сообщил мне он, когда я высказался ему об этом случае. – Такие приступы с ним происходят довольно часто, и к этим приступам здесь все давным-давно уже привыкли…
Пропев молебный канон Богородице, выслушав акафист Божией матери, приложившись под византийское пение «Красоте девства твоего…» к иконам и получив у настоятеля благословение на сон, вся монастырская братия дружно покинула храм.
Покинул его, конечно, и я.
В свою первую ночь в монастыре мне так и не удалось сомкнуть глаз. И дело здесь было не в том, что на соседней кровати как будто работал бульдозер – настолько мощным был издаваемый Богданом храп. Меня никак не отпускали мысли о Радике – именно они были причиной моей бессонницы. Я задумчиво смотрел в окно и был погружён в гнетущую, болезненную пустоту.
И тут до моих ушей вдруг донёсся какой-то смутный, какой-то шелестящий звук, как будто кто-то, старательно маскируясь, осторожно продвигался по коридору.
В моём сознании загорелся аварийный сигнал тревоги: «Внимание, опасность!».
Я приподнял свою голову над подушкой и, обернувшись к двери, целиком обратился в слух.
Шаги приближались. Внизу, в щели между дверью и полом, отчётливо обозначилась чья-то тень.
Я уловил приглушённый скользящий шорох. Это означало то, что кто-то снаружи прислонил своё ухо к двери нашей с Богданом кельи.
Меня это насторожило. Я скинул с себя одеяло. Моё сердце стремительно перешло на галоп.
И тут храп Богдана вдруг стих. Богдан перевернулся со спины на живот. Коридорное эхо разнесло стремительно удаляющиеся шаги, и тень из-под двери исчезла…
Глава одиннадцатая
Утро следующего дня снова выдалось ветреным и дождливым.
Услышав раздававшийся за окном гулкий стук в било, я откинул одеяло и спустил свои ноги на пол.
Богдан открыл форточку – наша келья быстро избавилась от запаха пота. Я оделся, обулся, заправил свою кровать и отправился проходить гигиенический «моцион».
После утренней литургии ко мне подошёл отец Гавриил.