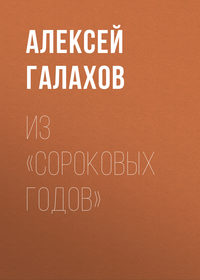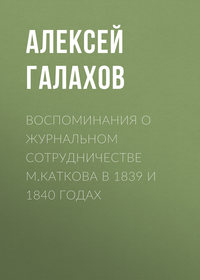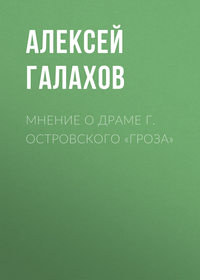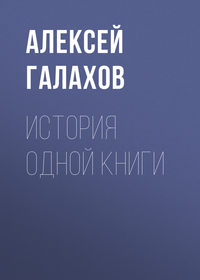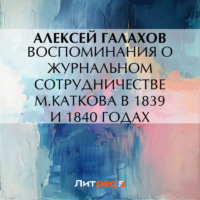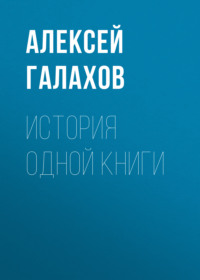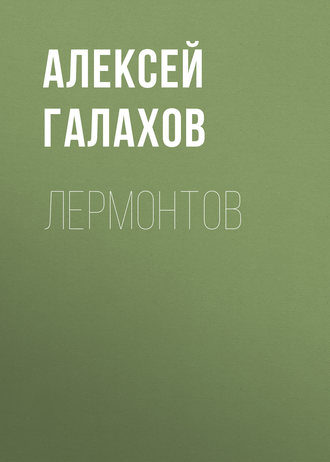
Лермонтов
С двадцатых годов начали появляться у нас переводы Байрона[20] прежде в журналах, потом отдельными изданиями. Некоторые пиесы его, помещенные в Вестнике Европы 1820 г., составили особую книжку, которую переводчик их, Каченовский, напечатал под названием Выбора из сочинений лорда Байрона (1821). Затем последовали: Шильйонский Узник, Жуковского (1822), Абидосская Невеста, И. Козлова (1826), Паризина, Вердеревского (1827), и проч. Примеры художественных подражаний Байрону, разумеется измененному сообразно особенным принадлежностям подражателя, даны впервые Пушкиным: Кавказский Пленник страдает хилым разочарованием, Алеко (в Цыганах) слабодушным отчуждением от общественных уз, Онегин пресыщением жизнию и вследствие того скукою. По образцу Байрона и Пушкина выводились у нас, более или менее достойные в поэтическом смысле, герои переходной эпохи, с разными оттенками. В Чернеце Коаиов мрачное и гордое отчаяние гяура переложил на романтическую унылость. Замечательны, по своему отношению к действующим лицам Пушкина и Лермонтова, две стихотворные повести Баратынского: «Бал и Цыганка (названная в первом издании Наложницею). Герой первой из них, Арсений, носил на челе следы печальных размышлений и мучительных страстей»; подобно Ларе и Измаил-Бею, он «оставил родину, но чуждый предел, где он искал развлечения, не исцелил его сердца, не разогнал невольного мрака его души.» Во второй повести, Елецкой «находился под гнетом тяжких и черных мыслей»; он «впал в заблуждения не столько сердцем, сколько умом», случай обыкновенный в жизни слабовольных натур, которые, «дав волю страстям, дали волю и уму», что еще хуже, по собственному приговору Елецкого. Любопытно, что и у Пушкина и у Баратынского, как бы в упрек и стыд мужскому слабоволию, проистекающему от преждевременной развитости, противопоставлены решительность и сила женщины, сохраненные их непосредственностию или малым развитием: какое различие по этому предмету между Черкешенкой и пленным офицером, Алеко и Земфирой, Ниной и Арсением, цыганкой Сарой и Елецким! Если мы присоединим сюда повести и рассказы Подолинского: Борский, Нищий, Див и Пери, то будем иметь на виду все главнейшие литературные произведения, в которых, более или менее сходственно, выступали черты героев Лермонтова. Между тем ни одно из этих лиц, предшествовавших Печорину, не производило такого решительного впечатления, как Печорин. Причин этому следует искать, во-первых, в более глубоком анализе, которому поэт подверг душевное состояние героя нашего времени; вовторых, в самом однообразии созданных им лиц, тогда как ни у самого Пушкина, ни у его последователей не было исключительного пристрастия к означенному типу: рядом с ним существуют у них и другие типы, привлекающие тоже внимание читателей; в третьих, в самой энергии начертанного характера, на котором сосредоточена сила творческая, и по которой, как было уже замечено, Лермонтов может быть справедливо сравниваем с Байроном. У того и другого везде властвует одна и та же фигура: ни сами поэты не выпускают её из виду, ни читатели не сводят с неё глаз. Все остальное служит ей обстановкой, приносится в жертву, ради художественного её возвышения, как в самой жизни героев все жертвовалось их эгоистической силе. Лермонтов относится к своему созданию таким же образом, каким Байрон к своим созданиям: оба истощили свою мысль и фантазию на любимый идеал, в котором различали многое родственное их духу.
В истории образования той духовной настроенности, о которой мы рассуждаем, не должно быть пропущено участие немецкой философии и немецкой поэзии. Еслибы знакомство с первою было рационально и прочно, тогда конечно и в последствиях не оказалось бы шаткости, которая бессильна сделаться точкой опоры и для мысли и действия. Но так как мы усвоивали ее (если только прилично здесь слово «усвоение») отрывками и урывками, учились в ней, говоря словами Пушкина: «чему-нибудь и как-нибудь», взяли голые выводы и положения, не сознавая, откуда явились выводы и во что развиваются положения, то итог нашей философской образованности вышел не только скудным, но и чем то внешним. Он только способен был увеличить капитал внутреннего колебания. Под немецкою поэзией разумеется здесь стремление некоторых поэтов наших к Гете, на которого, при новых началах эстетики, разработанной немецкою философиею, смотрели как на одного из верховных представителей чистого искусства. Его миросозерцание отразилось и в стихотворениях Баратынского, который впрочем пришел к тому же воззрению самобытно, и в стихотворениях Тютчева, изданных 1854 года и напомнивших собою прекрасную эпоху нашей поэзии – эпоху Пушкина. Многие лирические пиесы Баратынского, преимущественно элегии, выражают ясно предустановленность и вследствие того неизменяемость всего сущего. Сборник же стихотворений, получивших знаменательное название Сумерек, самим этим названием, и еще более содержанием, дает знать о сумрачном состоянии духа поэта. Неумение или невозможность совладеть с тем, что дает нам с одной стороны опыт жизни, весьма часто печальный, а с другой – мысль, I думающая над опытом, породила элегии самого темного цвета, дышащие такою безнадежностью и отчаянием, такою утратою веры в какой-либо идеал, которые ни в чем не уступают скорби Арбенина, Измаил-Бея и Демона. У Тютчева воззрение Гете обнаруживается глубоким сочувствием к природе, в её явлениях и сущности. Характеристика же духовного состояния эпохи представлена им коротко, но метко, в небольшом стихотворении: Наш век. Оно начинается следующими словами:
Не плоть, а духи растлился в наши дни,И человек отчаянно тоскует;Он к свету рвется из ночной тениИ, свет обретши, ропщет и бунтует, и пр.Точно такое состояние только в другой сфере жизни, символически изображено в Парусе, который счастья не ищет, и не от счастья бежит, который просит бури, как будто в бурях есть покой, ему желанный и им искомый.
Увлечение байронизмом сменилось увлечением так называемою школою французских романтиков, в лице их главного представителя В. Гюго и его последователей – Дюма, Женена, Сю, Бальзака. Последний особенно нравился и оказал действие своим психологическим анализом жизни и характеров. Обычай его не оставлять неизведанными даже малейших душевных движений, проникать в самые сокровенные изгибы сердца, не довольствоваться простым началом и концом, но отыскивать начала начал, рассматривать концы концов, положили и в нашей беллетристике основу психологическому её направлению, при котором интрига романов и повестей, как дело второстепенное, подчиняется анализу страстей и характеров – предмету главной важности. Таким образом чтение повествовательных поэтических произведений, бывшее легким развлечением, занятием досуга, обратилось в труд, своего рода головоломное упражнение. Мы получили вкус к рассказам, где история смешана с рассуждением, тонким развитием тончайших ощущений. Нам нравилась эта внутренняя анатомия, как материал и орудие для нашей пытливости.
Слово романтик, которым означался поэт, отрешившийся от академических правил, признававший законность не одних ложно классических французских форм, с любовью обращавшийся к средним векам, то слово, которое относилось и к В. Гюго и к Пушкину, приняло в последствии иной смысл: оно стало означать реакционера, то-есть человека, желающего не только возвратиться к прошлому (не из одних поэтических видов), но и реставрировать прошлое в противодействие настоящему и из неприязни к будущим успехам.
Позднее перешло к нам общественное направление поэтической деятельности, чрез посредство романов Жорж-Санда. Большая часть этих романов была, как известно, только особенною формой для выражения идей той доктрины, с которою мы знакомились и по другим источникам и в других формах, независимо от романов Жорж-Санда.
Этим оканчиваем мы обзор главнейших моментов нашего умственного движения. Мы рассмотрели эти моменты кратко, на сколько они касаются означенного настроения: полнейшее изображение их принадлежит истории отечественного просвещения. Моменты эти были вместе моментами наших заимствований у Европы: ими наше общество примыкает ко всем другим образованным европейским обществам. Но по особым историческим причинам мы брали готовое, разработанное другими, вследствие чего и не могли ни так привязаться к нему, ни так сильно укрепить его в своем умственном достоянии. Кроме того, предметы подражания довольно спешно сменялись одни другими, отчего большая часть их ложилась в нашем сознании рыхлою насыпью, а не твердо-убитою плотиной, и мы дорожили ими скорее как фактом развития, чем как основой для образа мыслей и действий. Наконец, – и это почти самое важное, – все эти сведения, обогатившие нас в течение различных моментов нашего образования, не были в надлежащем обороте деятельной жизни, иногда потому, что оказались недостаточными, скудными для практического приложения, иногда потому, что не было приготовлено почвы для собранных семен, иногда наконец потому, что покушение к деятельности поражалось в самом его начале, осуждалось на бездействие. Рядом с сомнением в успехе, которое испытывает постоянно личность не твердая в понятиях и опытности, не уверенная в самой себе, являлось и препятствие внешнее, налагавшее свое veto на те или другие попытки и пробы. Сколько причин для колебания мысли, для ослабления чувства, для пассивности воли, не имевшей случаев искуситься в определенных, решительных проявлениях!
Но тип Героя нашего времени не был бы совершенно полным и живым, еслиб он, входя в круг общеевропейского настроения русского образованного общества, не представлял никаких особенностей последнего. Национальные черты заметили мы в самом начале первой статьи нашей, – необходимый элемент при определении поэтического образа. К обстоятельствам, общим для нас вместе с другими Европейцами, присоединяются обстоятельства наши собственные, так сказать домашния, имевшие место в известный период времени.
В среде духовной атмосферы, которая отличается напряжением мысли и ослаблением воли, пытливостию ума и недостатком энергии, нужной для деятельности, являются иногда люди исключительные, не в пример большинству. Их также коснулась зараза времени; в натуре их также совершилось раздвоение, по которому одна её половина живет в полном смысле этого слова, а другая мыслит и судит; их также разумела Дума, оплакивая пустоту и мрак современного поколения: однакож, по особенным дарам природы, они возвышаются над общим уровнем, и не могут помириться с окружающим их миром. К числу таких людей относятся герои Лермонтова, преимущественно Печорин.
Печорин сознает в себе эту врожденную мощь. Вопросы о самом себе, о цели своей жизни нередко выступают перед ним, особенно в те минуты, когда он видит чудное, фаталистичестое сплетение судьбы своей с судьбою других: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее, и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?… А верно она существовала и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Ужь не назначен ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, или в сотрудники повестей, например, для Библиотеки для чтения?… Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий, или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками! Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть, или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.»
Вот как смотрел на себя Печорин! Он различал в себе человека с могучею организацией, существо гениальное, из разряда Байронов или Александров Великих, с высоким назначением на земле. Отчего же цель не достигнута, поток жизни проложил себе дорогу не соответственно назначению? Могут быть тому разные причины. В одном месте Печорин берет всю ответственность на себя: «Я не угадал назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагородных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни». Но в других местах, напротив, он отклоняет от себя вину, и таким образом ставит в затруднение читателя, который желал бы объяснить себе настоящий источник его действий.
Человек, одаренный мужественными способностями, одарен с тем вместе и могущественною жаждою деятельности. Деятельность должна служить необходимым и сражением его силы, которая находит в себе двоякое побуждение, и природный инстинкт, вызывающий ее наружу, и образованное понятие об её употреблении, запрещающее ей сидеть, сложа руки. Что жь, если по каким-либо условиям, время не благоприятствует развитию всего сильного и гениального? если оно осуждает или на бездействие, или на пустоту деятельности? Нет поприща, где бы оказалась возможность развернуться и прилично, и широко; не есть много преград к развитию. Душа, оскорбленная таким порядком дел, испытывает тягостное противоречие не только между идеалом и действительностью вообще, но между идеалом и ближайшею средою. Сила, не находя исхода, пробивает себе другой путь. Желая заявить себя, она истощается на что-нибудь, часто на пустое и недоброе. Печорин похищает и бросает Бэлу, оскорбляет Мери, терзает Веру, убивает Грушницкого. Опыты его деятельности – ряд самых неприятных столкновений с ближними: она истощается в волокитстве, в преследовании таких ничтожных личностей как Грушницкий или князь Звездич, в обидном обращении с такими добрыми личностями, как Максим Максимыч. Вся его забота проходит в том, чтобы выказать свое превосходство. Затем он уединяется в высокомерный эгоизм, это свойственное пристанище сердца, презирающего свет, подобно тому, как хищное животное, утолив стремление к хищничеству, скрывается в своей берлоге[21].
Вооружаясь против «гнета просвещения», которое будто бы сделало нас ничтожными, слабовольными лицемерами, сами герои Лермонтова страдают полуобразованием. В них легко рассмотреть циливизованное варварство. Не по одной антипатии к поверхностному европеизму, Лермонтов обращается к Горцам и России XVI века. Здесь действовало известное внутреннее сочувствие: с'est son faible, можно сказать о нем. Идеалы, им выведенные, даже из среды европейской, дики, неистовы; деспотичный Арбенин, Печорин, Радин, поставленные рядом с героями Байрона, должны завидовать их гуманности и разумности действий. Арбенин любит Нину, но как он мстит ей? хуже Отелло, Вера не столько предмет истинной страсти Печорина, сколько игрушка его тираннии и чувственности. Когда он, уморив коня в поездке к Вере, заплакал как ребенок, то были не слезы сердечной привязанности, а скорее слезы досады, беснующейся за неудачу прихоти. Тираннические, роковые наклонности нисколько не возвышают его ни над жителем нашей старины, боярином Оршей, ни над жителем Кавказских гор, Хаджи Абреком. Неужели думал Лермонтов реставрировать хилых своих современников, освободить их из-под гнета мирной цивилизации посредством подобных идеалов? Шиллер, в рассуждении о наивной и сентиментальной поэзии, запрещает идиллику обращаться назад, к детству, чтобы не покупать себе желанного покоя ценою драгоценнейших приобретений ума; человека, не могущего воротиться более в Аркадию, предписывает он вести в элизиум. Неужели этот элизиум в эпохе Иоанна IV или на вершинах Кавказа? Такова ли profession de foi нашего поэта? и в этом ли смысле надобно понимать его стихотворение: «Нет, я не Байрон, я другой»? Было бы странно и жалко убедиться в таком взгляде на общество, хотя лица, с которыми мы познакомились, своим образом мыслей и действий заставляют видеть в себе адептов этой, а не иной «общественной философии».
Отсюда прямой переход к нравственному значению героев Лермонтова. Объяснить возможность того или другого образа действий не значит еще вполне с ним расквитаться: следует определить его законность или противозаконность. Различные влияния раскрывают перед нами причины, почему такой-то человек вышел тем, а не иным лицом; они могут даже в известной мере оправдывать его, если он выказал себя дурною личностью: но это только обстоятельства. облегчающие виновность, а не оправдывающие ее, circonstances atténuantes, как говорят французы, не более преступный характер, уклонившийся при таких обстоятельствах от нравственного начала, заставляет смотреть на себя снисходительнее: самое хе начало остается непреклонным.
Если нельзя было герою известна о времени действовать так, как бы ему хотелось, даже (допустим и это) как бы следовало по его понятиям; то все-таки совести каждого неизбежно представляется вопрос: должно ли было действовать ему так, как он действовал? Кто имеет право, – и себе допустить, и другим позволить, – посвятить жизнь мщению за бессилие, на которое он обрекается современною обстановкой жизни? Кто имеет право, удовлетворив чувству мщения, утешаться им, как будто в этом удовлетворении единственный долг человека и гражданина, а в этом горьком утешении единственная награда за подвиг мстителя? И кому же мстить? тем, которые нисколько не участвовали в печальной жизненной обстановке? В жизни много путей, в обществе много обителей, где можно найти честный приют и сериозную цель: ибо честь и сериозность измеряются не обширным кругом служения, не внешним его блеском, а отношением их к долгу. Кто, помышляя о своих высоких силах, пренебрегает или скучает бременем невысоких обязанностей, в душе того очень много высокомерия и нисколько нет истинной любви к общему благу. Он – аристократический белоручка, бегающий черной работы и брезгающий чернорабочими. Его протест вытекает не из бескорыстной преданности правде: его протест – гневный голос самолюбия, раздраженного неудачею гордых покушений, заносчивых притязаний. В том случае, когда архитектор лишен возможности воздвигать новое здание по своему замыслу, пусть он будет простым каменьщиком: пусть готовит камни для будущего здания, или расчищает мусор в здании разрушенном. Поденщик, делающий свое дело, почтеннее гения, ничего неделающего или, что еще хуже, делающего ничего. Искренния заботы о собственном и общественном совершенствовании неминуемо связаны с готовностию на жертвы. К жертвам, самозабвению, разумному примирению неспособны герои Лермонтова. Они или пассивны и праздны, или тревожны и разрушительны. Им нравится возбуждение единственно ради возбуждения. Их деятельность без всякого содержания. Они руководствуются не идеей долга и созидания, а инстинктом хищничества и нестроения. Это – элемент противообщественный, враждебный самому принципу общества, своего рода Аттиды, то истребляющие, то скучающие. Аристотелево определение человека, как существа, назначенного жить в связи, обществе, им не к лицу; они оправдывают определение Гоббеса, который в человеке видел природного врага каждому человеку.
Мы не знаем, какова именно нравственная точка зрения самого автора на личности, им созданные; однако ж не можем не заметить, что эти личности выставляют себя с красивой стороны и часто любуются собою. Повесть их жизни – более её апология, гораздо менее её осуждение. Не можем также не заметить, что в отношении к ним Лермонтова легко различить сочувствие, и не легко отыскать антипатию. Он не смотрит на них иронически, говоря: «Вот жалкий герой нашего времени, вольного слабоволием и бездействием, сам зараженный теми же болезнями!» или: «Вот чем в наше время сильный человек принужден заявлять свою силу!» Нет, Печорин, Арбенин, Радин, поставлены им на значительно-высокие подмостки, окружены обаянием, могущим привлекать к ним сердца многих, преимущественно молодых людей. Они кокетничают своею силой, выставляют ее на показ, делают из неё парад. К ним как нельзя лучше идут слова, сказанные об Адольфе Бенжамен-Констаном, который, по предположению некоторых, изобразил в вымышленном герое дурные черты своего характера, тщеславие и изменчивость, но который с тем вместе произнес им правдивый упрек:
Я ненавижу фатство ума, который думает оправдать то, что он объясняет; ненавижу тщеславие, которое занимается само собою, размазывая учиненное им зло; хочет возбудить к себе сожаление, описывая себя, и, носясь невредимо над развалинами, анализирует себя вместо того, чтобы каяться. Ненавижу слабость, которая всегда обвиняет других в своем бессилии, не замечая, что причина зла не вне её, а в ней самой. Адольф за свой характер наказан своим же характером; наказан потому, что не следовал ни по одному постоянному пути, не выбрал ни одного полезного поприща, истощал свои способности без всякого направления и силы: направлением служил ему каприз, силою раздражение. Обстоятельства очень мало значат, все дело в характере. Напрасно расстаются с людьми и предметом, нельзя расстаться с самим собою. Можно изменить положение, но в каждое новое положение такой человек вносит муку, от которой желал бы он освободиться; перемена места не исправляет его, она прибавляет только к сожалениям угрызения совести, к ошибкам – страдания.
В тоне рассказа Печорина, в способе ведения интрига, даже в языке и слоге ясно видишь отпечаток блеска и тщеславия. Здесь Лермонтов подражал приемам французских романов, как в главных свойствах характера подражал он Байрону. По складу своему, по внешнему, так сказать, покрою Герой нашего времени, с своим доктором Вернером, напоминает скорее La Confession d'un Enfant du siècle, где также есть доктор, чем так называемые романтические поэмы Байрона.
Не один Бенжамен-Констан, но и Шатобриан, жалел о тревоге своего героя (Рене), проводившего жизнь в бесплодных мечтаниях, а не в плодовитой деятельности. Историки литературы, например Гервинус и Ю. Шмидт, также порицают высокомерные притязания, гениальничанье людей, подобных тем, о которых мы говорили. В более зрелом возрасте, при более трезвом взгляде на жизнь и деятельность, и при более сериозном направлении того и другого, ложный героизм не обманывает более: чувствуется настоятельная потребность героизма истинного. В наше время, герою не нашего времени, печального и потому еще, что оно производило таких героев, мы в праве сказать то же самое, что миссионер и Шактас, слушавшие повесть Рене, сказали ему в заключение рассказа.
Ничто в этой истории не заслуживает сожаления. Я вижу юношу, упрямо преданного химерам, которому ничто не нравится и который освобождается от бремени общественного служения, чтобы предаться бесполезным мечтаниям. Человек, презирающий мир, не есть еще человек великий. Ненависть к людям и жизни происходит от недостатка дальновидности, от узкого кругозора. Расширьте горизонт ваш, и вы убедитесь, что все несчастья, на которые вы сетуете, чистая ничтожность… Что делаете вы здесь в глубине лесов, влача бесполезно дни и пренебрегая всякою обязанностию?.. Высокомерный юноша, думавший, что человек может довольствоваться только самим собою! Уединение усугубляет душевные силы и в то же время отнимает у них предметы деятельности. У кого есть силы, тот должен посвятить их на служение ближним; оставляя их бесплодными, он в то же время чувствует тайную нищету, и рано или поздно небо ниспошлет ему страшное наказание.
Миссиссипи, еще в начале своего истока, жаловалась на то, что она только прозрачный ручеек. Она требовала снегов у гор, вод у потоков, дождей у бурь, и вот она выступает из берегов своих и затопляет прекрасные берега свои. Надменный ручей восхищается своею силою; но как только увидел, что на пути его все исчезает, что он одиноко течет в пустыне, что волны его постоянно возмущены, он пожалеть о скромном русле, изрытом для него природою, о птицах, цветах, деревьях и ручьях, бывших некогда скромными спутниками его мирного течения.
В заключении статьи нашей, имевшей предметом не всесторонне исследовать поэтическую деятельность Лермонтова, а только рассмотреть значение того идеала, который является во всех его произведениях, сообщая им слабый характер, считаем не бесполезным представить её содержание в кратких положениях:
Любимый герой вашего поэта, под разными именами выведенный в повествовательных и драматических пиесах, есть и сущности одно и то же лице. В том же виде выступают черты этого лица и в лирических стихотворениях.
Характер этот весьма сходствен, иногда тожествен с героями Байрона.
Причина такого сходства с одной стороны в подражательности и, может быть, в сходстве характеров и общественных положений поэтов, с другой в общем настроении европейских образованных классов. Почему вопрос о поэзии Лермонтова обращается в вопрос о поэзии Байрона, иначе о поэзии переходной эпохи.
Поэзия переходной эпохи создала две личности: одну слабовольную и пассивную, другую энергическую и порывающуюся к деятельности. На последней отразились также болезни века: скептицизм, страсть к анализу, нерешительность, почему в ней ясно различается внутреннее раздвоение.
Оба типа начертаны Лермонтовым, но преимущественно и с большим развитием – второй, в лице Печорина, Арбенина, Измаиль-Бея, Радина, Демона и других. Все они страдают означенным раздвоением.