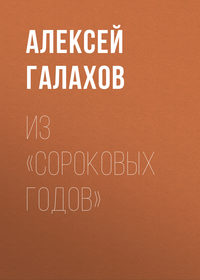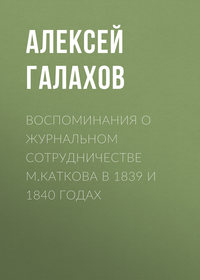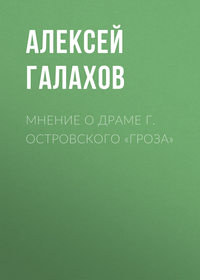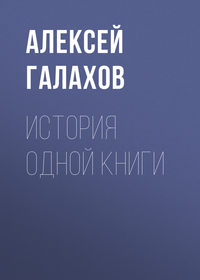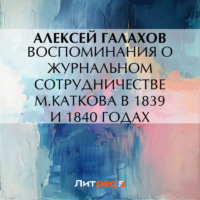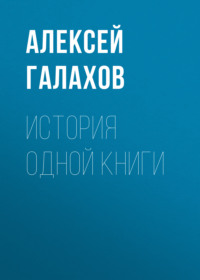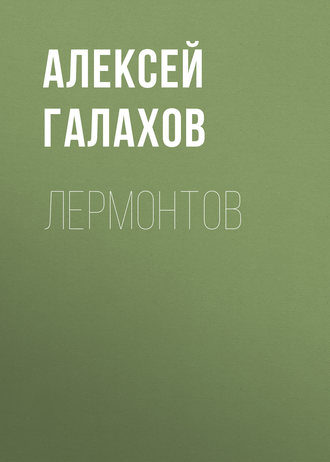
Лермонтов
Прими мою печальную мысль: подобно росе, она является к тебе в слезах; мой ум без паруса плывет по воле случая, и нет ему путеводных звезд, кроме твоего взгляда.
Небо темно, жизнь мрачна. Увы, что делает человек на земле? Немного шуму не большой тени.
Они (мертвые) лучше понимают мой голос, чем вы, беспокойные живые: гимны лиры, сокрытой в душе моей, для вас песни, для них рыдания. Лишь там (на кладбище) живу я! там мои неблагодарные сомнения претворяются в молитву».
Таким образом, в означенных стихотворениях, Гюго есть поэт мучительных, неустановившихся мыслей, выразитель сомнения и вытекающей из него скорби. Символами смутного, сомнительного положении мыслей, чувств и дел, служат для него «сумерки» и «тени». Правда, среди теней мелькают лучи, потому что, как говорит автор, «горизонт стал обширнее, небо лазурнее, тишина глубже, но сущность направления от того не изменилась»: это (приводим собственные слова Гюго) – «та же мысль при других заботах, та же волна при других ветрах, то же чело с другими морщинами, та же жизнь в другом возрасте.»
При именах Ламартина и Гюго, можно еще упомянуть Сент-Бёна, который, прикрывшись именем Жозефа Делорма, издал стихотворения, выражающие преждевременное во всем разочарование[13]. Для Делорма в двадцать лет исчезло обаяние любви и славы; прошедшее не оставило ему никаких воспоминаний, будущее не сулило никакой надежды Душа, в изнеможении своем, не находит меота, где бы отдохнуть ей хотя на мгновение. Тогда он решается насильственно прекратить долгий полет её: эта мысль о самоубийстве приводится в исполнение. Делорм ясно напоминает собою предшествовавшие ему образцы, так что книга Сент-Бёва есть не иное что, как результат знакомства с Вертерон, Рене, Мюнстером, Оберманом и Адольфом.
На французских писателей, сочинения которых явились после Адольфа, и которые относятся к так называемому байроновскому направлению поэзии, весьма сильное влияние оказали Гёте и Байрон. Влияние это обнаружилось преимущественно после падения Наполеона, когда умственное движение, сжатое военным деспотизмом, вырвалось наконец на простор и долженствовало взять свое. Как прежде, так теперь Фауст нашел переводчиков и подражателей.
Первая часть Фауста окончена Гёте в 1808 году, вторая в 1827-31 годах. Основная мысль драмы – борьба между идеей и действительною жизнию, между чувством идеальной свободы, стремлением духа к бесконечному и условиями конечного бытия. Задача человека – примирить оба элемента, уравнять духовное с чувственным, безграничное с ограниченным. Такую задачу примирения разрешает Фауст. В первой части его представлены титанические усилия покончить борьбу насильственно, и таким образом верно охвачен характер XVIII столетия, которое также стараюсь отрешить знание от средневековых оков; вторая часть, уступая первой в поэтическом достоинстве, аллегорически изображает решение задачи, искомое примирение путем разумным.
Известно, что основным сюжетом творения Гёте послужило народное сказание XVI века, содержащее в себе мысль о самостоятельном значении личности, о гордом её стремлении к знанию, имеющем целью – вознестись над уровнем обыкновенной действительности. Легенда была совершенно в характере времени: дух человека пытался тогда отрешиться от оцепенелых форм прошлого, от разных запретов и преград – в сфере совести от строгой нетерпимости, в сфере науки от схоластической пустоты, с сфере государства от бремени феодализма. Реформация взяла на себя обязанность проповедывать разумные права личности. Так как вторая половина XVIII столетия, по многим отношениям, сходственна с XVI, то понятно, почему поэты так называемого бурного и стремительного периода немецкой литературы (Sturm- und Drangperiode) обращались к легенде о докторе Фаусте. Никто из них, однакож, не обработал ее с таким поэтическим достоинством как Гёте, ибо один только Гёте стоял на высоте своего времени.
При более распространенном между французами знакомстве с литературой английскою, гораздо большее имел на них влияние Байрон, представленный во 2-й части Фауста под аллегорическим видом Эвфориона. Сын Елены и Фауста – классической древности и нового романтизма – Эвфорион презирает все легкое и бессильное, пленяясь только тем, но нужно преодолеть; у него одна цель – выказать силу своей води; ему сладостны мечтания не о спокойствии и мире, а об войне и победе; он любит могучих, смелых и свободных, и сам, одаренный такими же качествами духа, испытывает судьбу Икара.
По роду своего таланта и характера, равно как и по особым обстоятельствам эпохи, Байрон возбудил к себе преимущественное сочувствие, французов[14], которые распознали в нем, законного по духу, потомка Рене, успевшего сочетать и своих творениях саркастический скептицизм с пламенным красноречием сердца. Они распознали в нем жажду тревог и волнений, высокомерие личности, находящей свое упоение в борьбе с людьми и предметами, любящей пустыни и развалины, самолюбие, желавшее оставить по себе следы на всех путях, завидовавшее и славе Вольтера, как представителя отрицательной силы разума, и славе Наполеона, как представители силы деятельной. С падением этого мужа воли пало положительное величие: в замену его Французы увидели вымышленное величие Лары, Манфреда, Чайльд-Гарольда и других мрачных и скорбящих Фигур, которые, презрев человечество, заключились в твердыню неприступной гордости. Притом же Байрон был певцом освобождения Греков, а Греция, по своим классическим воспоминаниям, может назваться второю отчизною каждого образованного человека. Наконец Байрон был певцом и непреклонной борьбы с средневековыми авторитетами и сомнения, которое, после реставрации, развилось во Франции значительно Вот почему Французские писатели, в особенности молодые, сочувственно пошли на встречу Байрону и старались усвоить его образ мыслей и чувств. Противообщественные наклонности стали преобладающим началом в литературе и признаком гениальности. Истинное в своем основании и на первых порах непритворное, это увлечение уклонилось потом в крайность. Смешная сторона выказывалась здесь замашкой разыгрывать роль непризнанного таланта, непостигаемого величия.
Та болезнь, о которой говорила Стал при разборе Вертера (слова её приведены нами выше), обнаружилась у Байрона во всей силе, самыми решительными и безотрадными симптомами. По духу сомнения и гордого отчаяния, он наиболее характеристический поэт переходного времени. В героях, им созданных, хранится сильнейшая живучесть яда. Вильзон справедливо заметил, что на ряду с Гете (в Фаусте) и Шиллером (в Валенштейне), Байрон изобразил во всем объеме и напряженности ту агонию, которой подвержены люди сильные и мыслящие, вследствие глубоко-горького скептицизма. Разница в тон, что немецкие поэты, для выражения характера эпохи, выбирали не самих себя, а другие лица, тогда как Байрон самого себя (ибо Гарольд, Манфред, Лара – отражение субъективности автора) представил жертвою страданий, которым трудно прибрать определение и название. Поэтому к нему самому, или к харатерам, им выведенным, ко всем без различия идут стихи Мура, служащие эпиграфом Гяуру: «Воспоминание роковое и мрачное, печаль бросающая свою тень на радостную или злополучную судьбу, для которой жизнь без вкуса, удовольствие без благоухания, скорбь без жала».
Противовесие такой меланхолии в её силе: то величественная скорбь. Другое противовесие в том, что эта меланхолия необходима, как произведение кризиса и обновления. Это и бедствие и успех, зло и добро, болезнь с зерном выздоровления, предсмертные муки с надеждою воскресения. Байроновская поэзия, разумея под нею все произведения того направления, в котором подвизался Байрон символ хаоса, из которого возникнет мир, плод разрушения схоластико-феодального порядка и заявления новых начал, долженствующих произвести иной порядок[15].
Свидетельство о влиянии Гете и Байрона на французскую литературу, равно как изображение внутренней жизни Французской молодежи и вообще состояния Французского общества в эпоху реставрации, находим в романе Альореда Мюссе: La confession d'un Enfant du siècle (1836). Сын века – сын переходного времени представлен здесь блистательно-ярко, хотя быть может и с преувеличенно-темной стороны, в лице героя Октавия, и в начальных страницах исповеди, идущих от самого автора. Приводим сокращенно содержание последних:
К этому времени (окончанию наполеоновских войн), два величайшие, после Наполеона, гения посвятили всю свою жизнь на собрание элементов тоски и страданий. Гете, патриарх новой литературы, представив в Вертере страсть, ведущую к самоубийству, начертал в Фаусте самую мрачную человеческую Фигуру, образ зла и несчастья. Сочинения его начали переходить тогда из Германии во Францию. Байрон отвечал ему криком скорби, от которого затрепетала Греция, и поставил Манфреда над бездной, как будто ничтожество было решением задачи его мучившей.
Когда немецкия и английские идеи пронеслись над нашими головами, нами овладело чувство мрачного я молчаливого отвращения, за которым последовали страшные содрогания. Ибо формулировать общие идеи значить превращать селитру в порох. Взрыв унес бедные творения и закружил их, подобно пылинкам праха, в вихре общего сомнения.
То было отрицание всех предметов, которое можно назвать разочарованием или, если угодно, безнадежностью. На вопрос: чему ты веришь? Французская молодежь отвечала: ничему.
Гамма твердые умы подверглись одинаковой участи с слабейшими и наравне с ними погружались во мрак. К чему служит сила, лишенная точки опоры? Против пустоты нет никакого средства.
Богатые говорили: только богатство существенно, все прочее мечта; будем наслаждаться и умрем! Люди среднего состояния говорили: только забвение существенно, все прочее мечта; предадим все забвению и умрем! Бедные говорили: только несчастие существенно, все прочее мечта; будем проклинать и умрем!
Сочинение Мюссе поучительно, по своему отношению к современной ему эпохе: главное действующее лицо его, Октавий, стоит в средине между Дон-Жуаном и Фаустом. Что же касается решения задачи, примирения с самим собою, самоосвобождения от нравственной и умственной путаницы, Мюссе не дает его, да и дать не в силах. Вместе с другими своими соотечественниками он утратил прежний авторитет, и не находить возможности возвратиться гь нему; прибегает к новому авторитету – философии, и не имеет средств понять и оценить ее. Несостоятельность, даже безразсудство его доказывается между прочим тем, что он называет Канта болтливым ритором.
Господствующая болезнь поразила наконец и другую половину человеческого рода, тех женщин, которые, силою умственного развития, возвысились над своим общественным положением. Роман Жорж-Санда, Лелия, есть произведение тягостного скептицизма. Уже самый эпиграф к первой части показывает внутреннее настроение автора, который, по своему собственному признанию, изобразил себя в Лелии: «Quand la crédule espérance hasarde un regard confiant parmi les doutes d'une âme déserte et désolée pour les sonder et les guérir, son pied chancelle sur le bord de l'abîme, son œil se trouble, elle est frappée de vertige et de mort.» Содержание вращается около мысля о разрыве между духом и телом: Делия есть представительница одной стороны, спиритуализма, Пульхерия – представительница другой, эпикуреизма. Та и другая своего рода отвлеченности, фальшивые в поэтическом смысле, но полезный, как средства выразить основную идею сочинения. Между ними стоить Стевио – образ энтузиазма и слабости, энтузиазма ума, увлекаемого воображением, и слабости воли, сокрушаемой действительностию без поэзии и величия. Жорж-Санд не скрывает зла: она признает всю его силу и видит в нем неизбежный путь к возврату веры[16].
Мы рассмотрели главнейшие явления того отдела Французской литературы, в котором отражаются идеи Вертера и Фауста, Разбойников Шидлера и героев Байрона. Но байроновское направление поэзии существовало и в других литературах: история каждой из них может отметить известный период, когда любимою темою поэтов было противоречие идеи и действительности, когда все они стремились к уничтожению этого разрыва, к примирению двух враждующих элементов, к «гармонии духа и тела», составляющей главный пункт нового миросозерцания. Различием народного характера определялось и различие поэтических произведений, воспроизводивших основное воззрение. Так Немцы выходили из мелких и сдержанных отношений; не впечатления деятельной жизни, а предчувствия сердца управляли теми личностями, которые создавало воображение. Наши Вертеры, Титаны, говорит Юлиан Шмидт, могли потрясать своими цепями, сколько им было угодно, но они не имели сил их сбросить[17]. Поэзия Гейне уже выходит из серы рассматриваемого нами направления, образуя столько же особое, сколько и гениальное явление. Что касается до соотечественников Байрона, то, как говорить Маколей, в течение нескольких лет не выходило у них ни одного романа без таинственного, несчастного лорда, похожого на Лару[18].
Таким образом направление поэзии, которая обозначается именем байроновской, выразилась в двух типах. Оба они, как произведение одних и тех же исторических обстоятельств, связующих предыдущее столетие с текущим, несут одинакое бремя страданий, преимущественно сомнения и отчаяния; но один из них, слабовольный, пассивный страдалец, а другой, гордый и непреклонный муж, с могучими силами духа, с жаждою деятельности, являющий нам образ Титана, никем и ничем не сокрушаемого.
Мы видели, что последний тип является на сцену и в сочинениях Лермонтова. Но у него есть и первый. Откуда и как они зашли туда? Другими словами: какая связь между теми обстоятельствами, которые породили поэзию байроновскую, и обстоятельствами собственно нашими, русскими, которыми обусловилась поэзия Лермонтова, представляющая такое несомненное сходство с байроновскою? Постараемся отвечать на этот вопрос в третьей, окончательной статье.
III
Те два образа, титанический и мелкий, о которых мы упоминали в предыдущей статье: один, наделенный мощными способностями духа и тела, часто изнемогающий от избытка сил, другой, всегда бессильный и своею слабостию возбуждающий не только сожаление, но и презрение, – эти два образа выступают постоянно и в сочинениях Лермонтова.
Типы могучих характеров нам уже известны: это Измаил, Арсений, Орша, Мцыри, Арбенин, Демон, Печорин; это, наконец, сам Лермонтов. Типы слабых натур или являются перед нами лицом к лицу, или знакомятся с нами посредством описаний и лирических излияний самого автора. Они ничтожны иногда до презрения, каков например, в Маскараде, князь Звездич, иногда до сметного, каков например, в Герое нашего времени, Грушницкий.
Что такое Звездич, определительно узнаем от маски, встретившейся с ним на балу. На желание князя изобразить его качества, маска отвечает:
Ты – бесхарактерный, безнравственный, безбожный,Самолюбивый, злой, но слабый человек;Во тебе одном весь отразился век,Век нынешний, блестящий, но ничтожный.Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей;Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь;Людей без гордости и сердца презираешь,А сам игрушка тех людей.Блестящий, но ничтожный современный век, не способный ни к чему великому и заметный только игрою и растратою мелких чувств, отразился и на Грушницком многими свойствами: аффектацией, желанием производить эффекты, сделаться героем романа, пустым себялюбием, по которому он целую жизнь занимался лишь собою и вовсе не знал других, разочарованием, добровольно на себя напущенным, претензиями на то, чего у него нет, и чему он не знает истинной цены. То же влияние века легло и на воспитании княжны Мери, и на её поведении, соответственном воспитанию: она чуждается добрых наклонностей природы из опасения нарушить принятые в свете обычаи, предпочитает непростое простому, сентиментальное истинной чувствительности; никогда не давая правого выражения своим чувствам, она старается маскировать одно другим; в досаде хочет казаться равнодушною, в равнодушии страстною; Грушницкий представляется ей героем потому только, что носит солдатскую шинель; она смотрит с презрением на молодых людей, хотя и любят рассуждать о страстях и чувствах; пустилась в ученость вовсе без внутреннее потребности или из уважения к науке, а единственно по тщеславию или по уставу моды. От Мери недалек переход ко всем прочим русским девушкам и к русской женщине вообще. Портрет последней нарисовав баронессой, одною из эманципированных дам (в драме Маскарад):
Что ныне женщина? создание без воли,Игрушка для страстей иль прихотей других!Имея свет судьей и без защиты в свете,Она должна таить весь пламень чувств своих,Иль удушить их в полном цвете.Что женщина? Ее от юности самойВ продажу выгодам, как жертву убирают,Винят в любви к себе одной,Любить других не позволяют.В груди её порой бушует страсть,Боязнь, рассудок мысли гонит,И если как-нибудь, забывши света власть,Она покров с неё уронит,Предастся чувствах всей душой –Тогда прости и счастье и покой!Свет тут: он тайны знать не хочет; он по виду,По платью встретит честность и порок,Но не снесет приличиям обидуИ в наказаниях жесток.Сожаление о том состоянии общества, когда оно как бы отреклось от природы, заменив ее притворством, когда этому утомительному притворству нигде не видишь пределов, когда главнейшая забота человека устремлена на то, чтобы казаться не таким, каков он в самом деле, вырывается у Лермонтова часто и болезненно. Измаил Бей, боявшийся шутить с простым сердцем и с святым чувством, чего не боятся многие, нападает на людей за их слабоволие:
Какой-то робостию детскойИх отзываются дела:И обольстить они не смеют,И вовсе кинуть не умеют.У них нет решимости, нужной не только для великих общественных подвигов, но и для устройства собственных, так сказать, домашних дел. Все творится у них в половину. Они постоянно держатся средины, не златой или философической, которая избегает крайностей, а малодушной или неразумной, которая боится определенного и точного, не выбирает ни того, ни другого, хотя выбрать необходимо, колеблется между утверждением и отрицанием. В ряду мыслей не признать ни одной, как твердого убеждения, в ряду чувств не остановиться ни на одном, как на опорном пункте счастья – вот их печальный удел. Поэтому не мудрено встретить в их жизни беспрерывные переходы от любви к ненависти, от неверия к верованию, и наоборот. Целая жизнь их истощается иногда в беспокойном шатании духа между разнородными предметами.
Только мелкие страсти живут на земле, говорит Демон Тамаре, противопоставляя себя, существо могучее, слабости современной человеческой породы. На земле боятся и любить и ненавидеть. Над любовью людей, минутною, как они сами минутны, сильно властвуют, кроме непрочности организма, усталость, скука и своенравие мечты.
Найти лекарство от такой нравственной болезни трудно, если не невозможно. Она чрезвычайно упорна. Она въелась в нас воспитанием, обычаями, жизнию общества, духом времени, привычкой. Вокруг нас образовалась особая, все заражающая атмосфера: мы дышим ею везде и всегда. Напрасно, в этом случае, прибегать к перемене мест и лиц. Места и лица – нечто внешнее, бессильное над внутренним: «душе все внешнее подвластно». Так, по выражению одного из наших писателей, «унылый способен чувствовать одно уныние»; так же точно больной ничего не чувствует, кроме своей болезни. И потому с какой бы стороны ни смотрел на свою жизнь слабовольный современный человек, в итоге рассмотрения остается частию горестное, частию презрительное сожаление о себе:
….Напрасно грудьПолна желаньем и тоской:То жар бессильный и пустой,Игра мечты, боязнь ума.До сих пор мы говорили о слабовольных личностях. Но и могучие герои Лермонтова платят дань общей судьбе современного поколения, они также причастники его немощей, заражены тою же болезнию. Двойственность лиц, титанических и мелких, повторяется и в двойственности титанического образа. Герой и сам видит и другим дает видеть раздвоение своей натуры: одна её половина сильная и деятельная, выдвигающая его на передний план; другая, ослабленная и растленная, приравнивающая его пигмеям. Ослабление, как нам уже известно, совершилось влиянием мысли, анализа, сомнения, которое не только поражает энергию воли, но иногда и вовсе осуждает на вялую жизнь. «Во мне два человека, говорит Печорин: один живет в полном смысле слова, другой мыслит и судит его.» Мцыри противопоставляет человека коню и отдает предпочтение последнему, ибо он умеет в чужой степи сбросить с себя седока и найти прямую и короткую дорогу на родину. Природным чувством бессознательное существо достигает цели, тогда как сознание часто мешает нам достигнуть цели. Хилость одолевает нас. Мы – темничный цветок, боящийся света и опаляемый лучами даже утреннего солнца. Подобно шильйонскому узнику, мы вздыхаем по тюрьме, к которой привыкли, вздыхаем выпущенные за свободу, от которой отвыкли. Сколько завидует герой бодрой силе животного инстинкта, столько же завидует он наивным заблуждениям, которые у предков наших могли идти рядом с силою воли, не препятствовали уверенности, дающей уму и сердцу спокойствие, наслаждению истинную сладость, делу орудие.
А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.
Невольная боязнь, сжимающая сердце при мысли о неизбежном конце, объясняет нам, приведенные в первой статье, места из Измаила Бея, которые говорят «о скоротечности жизни», «о ничтожестве». Странные в устах Черкеса, они вовсе не странны в устах Героя нашего времени, которым был и Измаил-Бей на ряду с Печориным.
В числе жалких потомков, «скитающихся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха», Печорин дает место и себе:
В напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.
Немощь современного поколения, которого грядущее или темно, или пусто, и которое ветшает в бездействии, под бременем познания и сомнения, всего яснее и определительнее раскрыта в лирическом стихотворении «Дума», одной из самых печальных элегий и вместе одной из самых правдивых и обидных сатир. Не выписываем её, как известную всем, вероятно даже наизусть. Эта сатира-элегия характеризует действительную болезнь эпохи, истинное чувство поэта, не чуждого той же боли, главный, если не единственный, источник его грусти о других и себе, его ненависти к другим и себе.
После этого понятна антипатия Лермонтова к состоянию людей, нами представленному, равно как его симпатия ко всему, что противоположно подобному состоянию. Все, выказывающее свежия силы или восстановляющее силы истощенные, любовно привлекает его. Он всегда готов срывать лживо-изящный покров, которым думает замаскироваться пустота сердца, «алыш» ума. Он скоро задыхается в атмосфере официального света, но так же скоро отдыхает на вольном просторе степи, когда мчится на горячей лошади, по высокой траве, против пустынного ветра. Первобытность дикого народа или наивность просто человека служит для него убежищем от разных бедствий полуобразованного общества, стоящего на рубеже Европы и Азии. Особенно негодует он на лицемерие столичной жизни, где думают одно, а делают другое, где так просвещенны, что не могут уже думать иначе, и так растленны, что лишены способности обратить мысль в дело. Понятно также, почему Лермонтов выбирает нередко в своих поэмах местом действия Кавказ, а действующими лицами Горцев, народ первобытный, не утративший естественных сил и готовый отважно заявить их при каждом случае. Это героя, хотя и дикие. Если Черкес привязан к родине, привязанность его могущественна, как у Мцыри; если он считает себя обиженным, мщение для него неотразимый долг, как у Хаджи-абрека. При многих предразсудках и суевериях, необходимых принадлежностях варварского племени, у него есть сила в руке и уверенность в душе. Он умеет владеть кинжалом и не задумается отравить адом.
Вследствие того же Лермонтов от настоящего времени охотно обращается к годам старым, царствованию Грозного. Предки наши, менее нас знавшие, пользовались однако ж благами, для нас заветными, как бы невозможными при знании развитом. У них воля не состояла в обратном отношении к мысли. Раз убежденные в долги или необходимости поступить так или иначе, они не откладывали дела, не раздумывали при его совершении, не раскаивались по совершении. Опричник, полюбив купеческую жену, ласкал ее без боязни, а купец тоже без боязни умел отомстить за свою честь, «не дать свою верную жену на поругание злому охульнику». Боярин Орша и Арсений, хотя вызванные для воплощения байроновских идей, были люди твердые: тот крепко стоял за власть и честь отца, этот за свою независимость. Наконец, вследствие того же самого, Лермонтов питает такое расположение к личностям простым, чуждым лицемерия и аффектации, и детям, у которых и быть не может разлада между силами духа я стремлениями жизни, и не к детям, в роде Максима Максимыча, сохранившим за собою естественную гармонию человека. Описав впечатление, произведенное на штабс-капитана видом с Гуд-Горы, Лермонтов прибавляет: «в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных раскащиках на словах и бумаге». Печорин приязненно сошелся с доктором Вернером не потому собственно, что доктор умен и остроумен, а потому, что при этих качествах он не заразился обычными недостатками людей образованных: он прост в обращении, во взгляде на жизнь, в поступках. О сочувствии героев Лермонтова и самого Лермонтова к природе, как вытекающем из того же источника, мы уже говорили в первой статье.