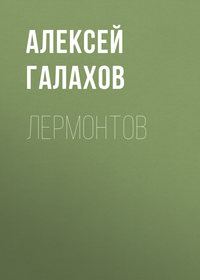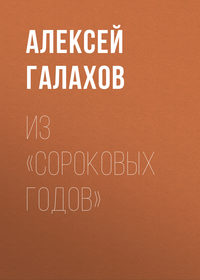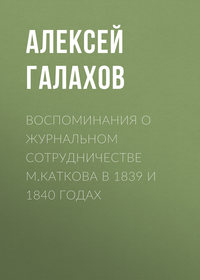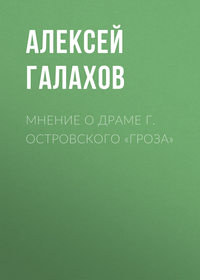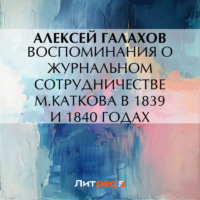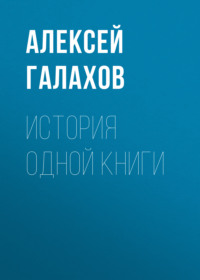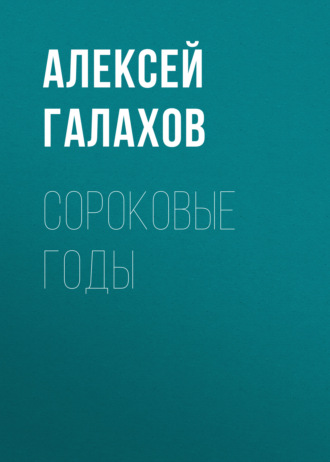
Сороковые годы
Дозволяю вменить себе в заслугу два дела, относящиеся к Белинскому: а) собрание его сочинений издано по моему списку, так как список, представленный покойным М. Н. Лонгиновым и переданный мне Н. X. Кетчером, заботившимся об издании, был исполнен пропусками и неверностями; б) по моему представлению, комитет общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым присудил выдавать его вдове с дочерью пенсию в 600 рублей.
IV
В плеяде беллетристов, следовавших за Пушкиным и начавших действовать в сороковых годах, пальма первенства, несомненно, принадлежала И. C. Тургеневу. Каждое произведение его ожидалось с нетерпением, читалось с жадностью и оставляло сильное впечатление в уме и сердце читателя. Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину». Он не тяготился, когда юные претенденты на поэзию осаждали его просьбами прочесть их первые опыты и сказать о них мнение. Щадя молодое самолюбие, он давал им повод продолжать занятия, от которых, конечно, было бы полезнее отвлекать их; но Тургеневу совестно было решиться на такой совет, частию по деликатности, а частию и по надежде: авось современем и выйдет что либо путное из первых шагов юношей на Парнас. Надежды, большею частью, не сбывались, за что и доставалось ментору от В. П. Боткина, не терпевшего разочарования в искусстве, какое бы оно ни было – эстетическое или кулинарное. Примерок тому не мало. Тургенев увлекся рассказами одного из московских студентов медицинского факультета, Л – ва, и начал чрез меру восхвалять их. – «Посмотрим, мой милый, – сказал с недоверчивостью Боткин: – познакомь меня с лучшими местами расказов твоего protégé». Тургенев начал читать, но чем больше читал, тем больше Василий Петрович хмурился и, наконец, напустился на своего приятеля: «Так это-то, по твоему мнению, многообещающий талант? Это-то ты называешь перлами поэзии? Это, мой милый, не перлы, а ерунда, дичь» и т. д. Однажды я и П. В. Анненков застали у Ивана Сергеевича благообразного офицера, с тетрадью в руках., По уходе его, И. С. обратился к нам с такими словами: «Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви». Заметив наше сомнение, он промолвил: «Ну, вот увидите сами». К сожалению, мы этого не увидели: хотя молодой офицер и оказался действительно талантливым, но все же не заткнул Лермонтова за пояс.
Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения иего были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.
По доброте своей, Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, т. е. ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. Нa вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечал: – «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня взаймы такими-то и такими лицами». – «Сумма не малая», – заметил я. – «Конечно, так; но знаете ли что? я нисколько не раскаяваюс с ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему в прок»… и он указал мне на означенном реестре: А. А. Г – ву (столько-то).
Симпатична и трогательна была привязанность Тургенева к детям. Случалось нередко, что он, приехав на вечер и приняв участие в общей беседе, оставлял ее и подсаживался в другой комнате к какому нибудь мальчугану или девочке на разговор. Ему интересно было подмечать в них проявление смысла, зародыш какого нибудь дарования. В таком случае он сообщал родителям свои замечания и советовал им обратить на них внимание. Известно, что для детей он и переводил, и сочинял сказки.
Прислуга также любила своего барина. Рассказывали (за верность слуха не ручаюсь), что он и брат его были одолжены ей получением материнского наследства. Мать, почему-то не любившая сыновей своих, хотела передать все имущество своей воспитаннице (Л – ой), побочной дочери одного из московских неважных докторов. Заболев серьезно, она посылала за нотариусом, но посылаемые не исполняли приказаний барыни и дали знать Ивану Сергеевичу, не бывшему тогда в Москве, о серьезной болезни своей госпожи и приглашали его поспешить приездом. Тургенев явился, когда духовной, по агонии больной, уже невозможно было совершить. Так или иначе, но Тургенев из нуждавшагося литератора стал богатым. Это дало ему средство вести жизнь привольную, собирать знакомых москвичей и угощать их обедами. Так как прежний повар не делал чести своему искусству, то он просил одного из своих петербургских купить ему другого, хорошего повара. Слово «купить» вызвало бы теперь смех или раздражение, но тогда оно, как обычное выражение, не удивляло даже самых ревностных противников крепостного права. Дело не в слове, а в чувстве, с которым оно произносится, и в мысли, которая с ним сопрягается. Заключать отсюда о барстве или аристократизме не следует. Тот же самый Тургенев, довольный «купленным» поваром за отлично приготовленный обед, в конце стола позвал его, выпил за его искусство и поднес ему самому бокал шампанского. Может статься, это было уже слишком, через край, но было именно так. Обвинявшие автора «Записок охотника» в барстве должны были помнить, что этим сочинением он оказал не малую услугу образу мыслей относительно крепостного права.
На обеды к Тургеневу приглашались московские профессора и литераторы, принадлежавшие к так называемой европейской партии (Грановский, Кудрявцев, Забелин, Боткин, Кетчер, Феоктистов и др.), хотя он был в дружеских сношениях с некоторыми членами славянофильского кружка, особенно с С. Т. Аксаковым. Из артистов почти постоянно являлись Щепкин, Садовский и Шумский и какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в «Дворянском гнезде»), мастерски игравший на фортепьяно. Иногда после обеда устроивался небольшой хор, под управлением Шумского, и гости, обладавшие голосом, исполняли тот или другой хор из какой нибудь оперы, преимущественно из «Аскольдовой могилы». А иногда Садовский морил со смеха вымышленными рассказами, которые мне нравились больше рассказов Горбунова: в них ярче, интереснее выступал комизм, потому что соединялся с некоторым лицедейством… Одним словом, все было светло, радостно, дружелюбно, хотя по временам и не обходилось без споров, на которые москвичи были очень падки (не знаю, как теперь). При одном воспоминании об этом, уже давно минувшем времени, я чувствую себя лучше, веселее, самодовольнее.
По выходе в свет «Записок охотника» известность Тургенева возростала все больше и больше. Ряд таких произведений, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», возвели их производителя на первое место и возбудили глубокую к нему симпатию. Иначе и не могло быть, потому что, Тургенев принадлежал к разряду талантов субъективных, то есть состоял в родстве с созданными им героями, представителями тогдашнего образа мыслей, страдал их недугами, был в числе людей слабовольных, не действующих, а размышляющих, заеденных, по его собственному выражению, рефлексией и анализом. С каким интересом читалось и перечитывалось «Дворянское гнездо!» Сколько чувств было возбуждено им, сколько слез оно стоило читателям и преимущественно читательницам! Некоторые места его так сильно действовали на чувства, что приходилось иногда на некоторое время прерывать чтение[13]. Справедливость высказанного обнаружилась блистательно на публичных чтениях, устроенных в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Первое чтение состоялось 10-го января 1861 г. в зале Пассажа. Тургенев выбрал из своих сочинений этюд, или, пожалуй, характеристику: «Дон-Кихот и Гамлет». Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время наш излюбленный беллетрист. Особенное чувство выказывали те посетители, которые, будучи очень хорошо знакомы с его сочинениями, впервые лицем к лицу увидали сочинителя. Короче, львиная часть оваций досталась на долю Typгеневу, и вполне справедливо.
Независимо от главного направления своего поэтического таланта, Тургенев обладал и значительною способностью к сатире. Этот в сущности кроткий голубь мог в случае надобности и язвить, как змея. Отрицательное отношение к текущей действительности выразилось всего явственнее в романе «Дым», речами Потугина. Здесь, как говорится, досталось и нашим, и вашим – и западникам, и славянофилам, почему он и не был в авантаже ни у тех, ни у других. Потугин осмеял наших борзых прогрессистов, из которых двое даже поименованы (Шелгунов и Щапов), а третий выведен под вымышленной фамилией Воротилина – того самого (как ходили слухи), в котором автор предсказывал поэта свыше Лермонтова. В Губареве, представителе наших прогрессистов, думали видеть Огарева, но едва ли справедливо: между ними нет никакого сходства, кроме разве того, что их фамилии образуют богатую рифму. Со стороны читателей, видевших в Потугине отсутствие патриотизма, явилась даже следующая эпиграмма на роман:
И дым отечества нам сладок и приятен! –Нам век минувший говорит.Век нынешний и в солнце ищет пятен,И смрадным «Дымом» он отечество коптит».Сочинение этой эпиграммы приписывали князю П. А. Вяземскому.
Прибавлю, что еще до появления романа в печати автор читал из него некоторые места в пользу литературного фонда. Чтение происходило в Петербурге, в доме бывшем Бенардаки (на Невском проспекте), и привлекло многочисленную публику. Посетители, даже из числа самых серьезных, не могли удержаться от смеха при характеристике русских людей, живших за границей.
Другой образчик сатиры, доведенный до сарказма или пасквиля, Тургенев адресовал к одному из лиц, известных и в службе, и в литературе. Вот первые строки этого злостного послания:
Друг мыслей возвышенных,Чуть-чуть не коммунист,Удав для подчиненных,Перед П-м[14] – глист,Само собою разумеется, такими ядовитыми посланиями наживаются непримиримые враги. Действительно, автор и охарактеризованная им личность сошлись только чрез многие лета: один – с извинением, другой – с прощением обиды.
Отзывы Тургенева о лицах и литературных произведениях выказывают его остроумие меткое и в то же время изящное. Приведу один пример. Узнав, что один из наших талантливых поэтов вместо прежней своей фамилии, с которой уже соединена была его известность, принял другую, он заметил: «Какая жалость! у этого человека было имя, а он променял его на фамилию». Кстати приведу появившееся на этот случай четверостишие:
Как снег вершин,Как фунт конфект,Исчезнул…И стал….нЧто Тургенев искони и неизменно принадлежал к западникам, что идеалом нашего интеллектуального и политического развития долженствовала, по его убеждению, неизбежно служить Западная Европа, нет ни малейшего сомнения. Это доказывается его спорами с московскими славянофилами, которые, не смотря на несогласие с ним во взглядах, уважали его высокий талант, но еще более его сочинениями, особенно романом «Дым». Беру из него для примера одно место. Прощаясь с Литвиновым, возвращающимся в Россию, Потугин дает ему следующий напутственный совет: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации, в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из её идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так – идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше благое». Ясно, что, по мнению Потугина (или Тургенева), следование по стопам Западной Европы есть sine qua non русского преуспеяния во всех отношениях.
Не помню, кто, где и когда (кажется, г. Марков в газете «Голос» пятидесятых годов) видел причину элегического настроения Тургенева в страхе его при мысли о неизбежной смерти. Настоящее время выразилось бы таким образом, что Тургенев был «пессимист». Действительно, некоторые места его произведений оправдывают такое мнение. Вот, например, какие мысли, говоря его словами, приходили ему на ум в небольшом рассказе «Поездка в Полесье (1857): «Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается один и тот же голос: «мне нет до тебя дела», – говорит природа человеку, – «я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». «При виде неизменного, мрачного бора глубже и неотразимее, чем при виде моря, проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях». Одно из «Стихотворений в прозе», под названием «Природа», подтверждает высказанный взгляд.
Некоторые читатели и критики осуждали Тургенева за отсутствие нравственных принципов, идеала. Это несправедливо и обличает малое внимание читающих. Напротив, у него явственно выражалась высочайшая цель человеческой жизни – альтруизм, любовь к ближним. Почетнейшим титулом каждому из нас служит слово «добрый». «Да», – говорит он в заключении своего прекрасного этюда (Гамлет и Дон-Кихот), «одно это слово имеет еще значение перед лицем смерти. Все пройдет, все исчезнет; высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, – все рассыплется прахом. Но добрые дела не разлетятся дымом: они долговечнее самой сияющей красоты; все минется, сказал Апостол, одна любовь останется». Прибавлю к этому еще заключительные слова к рассказу о долгом споре университетских товарищей – Лаврецкого и Михалевича. «А ведь он, пожалуй, прав», – думал Лаврецкий, возвращаясь в дом. Затем Говорит автор, т. е. Тургенев: многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может. Этим взглядом объясняется предпочтение, оказанное Тургеневым Дон-Кихоту, в сопоставлении последнего с Гамлетом: «он живет не для себя, а вне себя, для других; идеал его – истребление зла, водворение истины и справедливости на земле; чтобы достигнуть этой цели, он готов на всевозможные жертвы».
Но не даром говорится: «и в солнце, и в луне есть темные пятна». Выли такие пятна и в прекрасной личности Ивана Сергеевича. Наиболее заметные из них обнаруживались в слабоволии, легкомыслии, неустойчивости. Близкие к нему москвичи откровенно замечали ему этот недостаток. Н. X. Кетчер нередко говаривал ему: «ты ростом с слона, а душа у тебя с горошину»; В. П. Боткин величал его «Митрофаном». Может быть, отсутствие твердой воли объясняется его дряблым темпераментом, рыхлым телосложением. Этот великорослый человек говорил голосом отрока, часто жаловался на нездоровье и завидовал людям крепким, которые обладали неизменным аппетитом и надлежащим пищеварением. Холеры боялся он паче всего и немедленно бежал из тех мест, куда она направлялась. Вот один из примеров, подтверждающих вышесказанное. Тургенев был коротко знаком с известной писательницей Евгенией Тур, относился с большой похвалой о её романе «Племянница» и даже вызвался написать разбор его. Так было в Москве, но не так вышло в Петербурге, среди издателей «Современника», которые не жаловали автора «Племянницы»: под их внушением критическая статья вовсе не отвечала тому, что критик говорил в Москве. Иногда, Бог знает почему, Typгенев высказывал мнение, прямо противоположное тому, что он действительно думал. К числу таких выходок принадлежит его отзыв о предприятии П. В. Анненкова издать сочинения Пушкина, приведенный г-жею Головачевой-Панаевой в её «Воспоминаниях»: Анненков ни с того, ни с сего обзывается кулаком, круглым невеждой, а изданию его предсказывается позор; Некрасову же делается выговор, что он упустил случай взять на себя издание. Все это не согласно с настоящею мыслью Тургенева: он отлично знал, что Некрасов, хотя и крупный поэтический талант, не мог по своему недостаточному образованию удовлетворительно исполнить предприятие, тогда как Анненков, хотя и не поэт, но обладавший метким поэтическим чувством и надлежащими знаниями, сумеет удовлетворить ожидания публики, что он действительно и сделал, приложив к изданию «Материалы» для биографии Пушкина. Зачем же он говорил против своего убеждения? Да так – ни с того, ни с сего. Иногда, – что греха таить? – он и о себе, и о других, рассказывал небывальщину, почему Белинский и называл его импровизатором. Далее, Тургенев не жаловал Добролюбова за «Свисток» (в «Современнике»), направляемый безразлично одесную и ошую, на хорошее и дурное. Я помню, что на обеде у одного из офицеров генерального штаба он укорял его за отсутствие идеалов в суждениях о литературе, что дурно действовало на молодежь, а в одном из заседаний комитета литературного фонда он напал на Кавелина за его сочувствие к «Свистку»: «Нашего брата в грязь топчат (выговаривал он ему), а вы хохочете и своим хохотом одобряете безобразие». Но в других подобных тому явлениях Тургенев оставался молчалив и равнодушен, как бы потакая им или даже поощряя их своим равнодушием. Наконец, более и более редкое появление его на Руси, более и более сильное стремление за границу, преимущественно во Францию, а здесь преимущественно в семейство Виардо, вместе с неясностью его отношений к лицам разных политических и социальных учений, смущало его почитателей и отчуждало его от единоземцев. Конечно, он любил Россию, но уже любил ее издалека, не быв свидетелем, что с ней делается за последнее время его жизни. Неуспех его романа «Новь» обнаружил невозможность изображать новые движения народной жизни заочно, по слухам или газетам[15]. На ряду с его знаменитостью стали имена Достоевского и графа Д. Н. Толстого, а в настоящее время и превысили ее, судя по журнальным отзывам. Заметим, однако-ж, что Тургенев и за границей оказал несомненную услугу нашей поэзии, познакомив с нею французов и раскрыв им существенное её свойство, состоящее в том, что она имеет своим предметом и целью – правду жизни.
V
С Николаем Федоровичем Щербиной познакомился я в конце пятидесятых годов в Петербурге. Он часто посещал мое семейство по четвергам в день, назначенный для приятелей и знакомых. Каждый приход его был праздником для наших гостей, так как он угощал их произведениями своей сатирической музы, имевшей в виду преимущественно пишущую братию. К. Д. Кавелин помирал со смеху, слушая сочиненное им на славянском диалекте «Сказание о старце Михаиле»[16]. Впечатлению не мешал даже природный недостаток автора – заикание: напротив, оно сообщало особую оригинальность рассказчику, который сохранял полнейшую серьезность. Случалось, что у него экспромтом являлись эпиграммы на некоторые знакомые лица, и плодом такого внезапного вдохновения он тотчас делился с присутствующими. Таково, например, четверостишие на Л-ва, преподавателя математики в военно-учебных заведениях, занимавшагося, кроме того, философией и даже покушавшагося занять кафедру этого предмета в С.-Петербургском университете:
Он Пилат студентской дружбы[17],Он философ наших лет,Он полковник русской службы,Русской мысли он – кадет.Кто знал Л-ва, тот вполне признает меткость и верность последнего стиха.
Вот характеристика одного из поэтов, или, вернее, поэтиков: «это – благонамеренная, прогрессивная в гуманном и социалистическом направлении посредственность; это – канарейка, поющая с органчика социализма) пауперизма, гуманизма, прогресса, – канарейка, постоянно верная в начале принятому ею камертону». Нередко приходилось ему в гостях схватывать что либо забавное и тут же выражать его оригинальным образом. Однажды, сидя на диване, он облокотился на шитую подушку, очень туго набитую, жесткую: «это не подушка, сказал он, а «Путь ко спасению»[18]. Заметив понижение деятельности одного из самых почтенных профессоров, он охарактеризовал его именем Новиковского журнала «Покоящийся трудолюбец». О сотрудниках «Москвитянина» сороковых годов (иначе «молодой редакции» этого журнала) он говорил: «это не славянофилы, а спиртофилы». Редакция не осталась в долгу:. она отвечала удачной эпиграммой. Зашла как-то речь о привычке редактора одного из лучших журналов ежедневно гулять по Невскому проспекту в 8 или 9 часов утра. «Неправда, – возразил Щербина:– он гуляет лишь в те дни, когда камердинер ему докладывает, что в воздухе пахнет пятиалтынным». Всем известно его стихотворение к тени Булгарина, с просьбой решить, кто из двух тогдашних литераторов продажней и подлей. Особенно забавен был рассказ Щербины о том состоянии, в каком он обретался на вечерах у одной писательницы-поэтессы, любившей читать произведения пера своего. Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова на кресло…
Дорожа талантом привлекать внимание слушателей своими рассказами, Николай Фодорович имел слабость завидовать тем, которые могли состязаться с ним, а иногда и превосходить его в том же искусстве. Однажды, среди разгара его сатирического красноречия, посетил нас И. А. Гончаров, воротившийся из своего путешествия. Разумеется, он заполонил внимание гостей любопытным рассказом о виденных им странах, так что Щербина, как говорят теперь, стушевался. Я взглянул на него: он был печален и вскоре ушел.
При выдающейся наклонности к сатире, Щербина обладал верным чувством изящного, что и доказал как оценкой появлявшихся произведений наших поэтов, так и собственными стихотворениями, которые не были заурядными. но выдавались и внешней формой, и чувством или мыслью. Автор их действительно принадлежал к числу мыслящих и по взглядам своим склонялся всего более к славянофилам. Он преследовал каждого прогрессиста, который восхищается всем новым, потому только, что оно ново, и который выставлен на посмешище словами поэта:
«Что ему книга последняя скажет,То на душе его сверху и ляжет».Щербина уважал предание и ценил лишь тот прогресс. который совершается на основании историческом, без разрыва с прошлым. На этом пункте он разделял взгляды Хомякова, Аксакова и Киреевского. Свидетельством этого, между прочим, служит изданная им книга: «Пчела», т. е. сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении. Самое название напоминает древне-русскую литературу. Содержание книги расположено по важнейшим предметам любознательности и душевной пользы русского человека, коренные стихии которого сохранились среди простого народа. Книга состоит из четырех отделов, и один из них «общеславянский», заключающий в себе сведения о славянах вообще, о Кирилле и Мефеодии, некоторые песни болгар, сербов, словаков, чехов.
VI
Кудрявцев (Петр Николаевич), по характеру и образованию, не походил ни на своих друзей и одномысленников, ни на лиц другого направления. Он чтил в особенности Грановского, который, с своей стороны, относился к нему с любовью и уважением; он состоял также в неизменно дружеских отношениях к Каткову и Леонтьеву, но вместе с тем отличался от них, в свою пользу, существенными качествами. Это была личность исключительная, человек-особняк.
Одаренный врожденным изяществом, он еще с детства выступал из среды своих сверстников, привлекая к себе мягкостью нрава, пристойностью обращения, какой-то степенностью или серьезностью. В нем не было ничего резкого, порывистого, безразсудного, свойственного почти всем его сверстникам, или, по крайней мере, большинству их. Рано лишась матери, он в отце своем, священнике Даниловского монастыря (в Москве), нашел умное и попечительное о себе радение, в котором долг отца совмещался с нежною любовью матери. Сын, платил ему тою же монетою.
В школе (духовной семинарии) он держал себя исключительно, вовсе не похоже на поведение своих товарищей. Учился он, разумеется, очень хорошо, но не в этом главное его отличие: важно то, что он не старался выказывать ни учителям, ни товарищам своих знаний. Он не был тем, что называется «выскочка»: спрашивал его преподаватель – он отвечал, не спрашивал – он не поднимал руки, по тогдашнему школьному обычаю, давая тем знать, что я, дескать, знаю урок, а товарищи мои не знают. Таким обычаем, может быть, и поощряется школьный успех, но в то же время развивается тщеславие, корыстное соревнование, из малых ребят готовящее взрослых членов общества, любящих подставлять ногу своим сослуживцам.