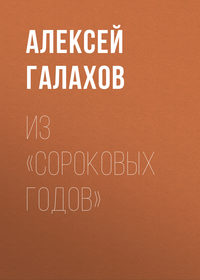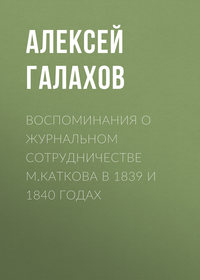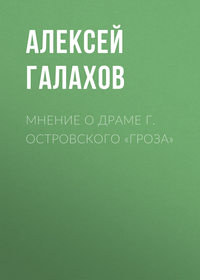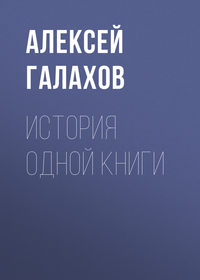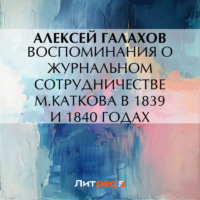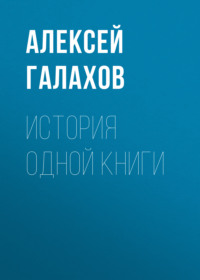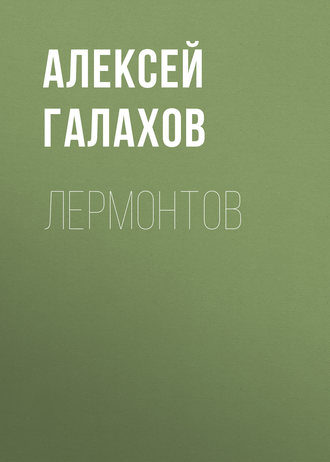
Лермонтов
От фатализма раждается в душе Измаила холодное спокойствие: он знает, что положенного предела переступить нельзя, что людская вражда не постигает главы, постигнутой уже роком, который не уступает своих жертв земным судиям. Но этому мужу судьбы природа дала непобедимый ум, окрепший в борьбе; при нем всегда на страже гордая мысль и холод сомнения; он не желает ни усладить, ни позабыть страданий: он мечтает только победить, хотя победить не может.
Но здесь снова возникает вопрос, который мы уже предлагали: отчего эти страдания? какая причина грусти, этого жестокого властелина людей, в таком человеке, каков Измаил? Правда, он создан для великих страстей; но все им испытанное – враги, друзья, изгнанье, не могли осудить его на те страдания, которые являются только на вершине утонченной европейской цивилизации, не могли привести его ни к анализу, и к сомнению, атому лютому врагу новых людей. Вопрос, гош предложенный, снова остается без ответа. Для решения его не имеется надлежащих объяснений, а есть только Факт, который рассказать не трудно: юный летами, Измаил стар опытом;
Старик для чувств и наслажденья,Без седины между волос;сердце его сделалось мертвым; на душе лежит бремя тяжелых дум; уста привыкли к проклятью; он лишний между людьми. Часто обманутый, он боялся,
…верить только потому,Что верил некогда всему, –причина, одинаковая у него с боярином Оршей, который также не удивлялся злу и не верил добру,
Не верил только потому,Что верил некогда всему.Страдания Измаила еще сильнее страданий Арбенина и выражены превосходными стихами. Выдающийся пункт мучения – известные моменты, которые однакож не сокрушают могучих мучеников.
Видали ль вы, как хищные и злыеК оставленному трупу, в тихий дол,Слетаются наследники земные,Могильный ворон, коршун и орел?Так есть мгновенья, краткия мгновенья,Когда, столпясь, все адские мученьяСлетаются на сердце и грызут!Века печали стоят тех минут…Лишь дунет вихрь, и сломится лилея:Таков, с душой кто слабою рожден;Не вынесет минут подобных он.Но мощный ум, крепясь и каменея,Их превращает в пытку Прометея!Не сгладит время их глубокий след;Все в мире есть – забвенья только нет!Самозабвенье, покой, нужные в таком безотрадном положение, не даются великим страдальцам. Герои невыразимой печали, они в то же время герои неотразимой мысли: вот трое капитальное сходство между Измаилом и Арбениным. А где мысль, там не стихает живая боль человека. «Я глупо создан, восклицает Печорин: – ничего не забываю, ничего». С другой стороны, герои так горды, что хотят пряно смотреть в ужасное лицо страдания и принимать его удары, презирая их. Судьба, говорит Демон (в поэме того же имени), не дала мне забвенья, да я и не взял бы его.
Из толпы мыслей, преследующих Измаила, замечательна также мысль о скоротечности жизни, о ничтожестве. Два раза встречаем мы ее: однажды при взгляде Измаила на родные горы, в другой раз – при смертельной ране, им полученной.
Забыл он жизни скоротечность;Он, в мыслях мира властелин,Присвоить бы желал их вечность.……………………….Ужель степная лишь могилаНичтожный в мире будет следТого, чье сердце столько летМысль о ничтожестве томила?Не странно слышать эту мысль от человека, пораженного сомнением, которое сделалось обиходною монетой в переходные времена цивилизации; но как понять ее в устах Черкеса? Впрочем, мы обратимся к ней в последствии и постараемся объяснить её значение.
Рассказ Мцыри энергически выражает стремление к простору и свободе того гордого и могучего горца, которого хотели запереть в монастыре, как орла в клетке. Шести лет привезенный русским генералом из гор в Тифлис и сильно заболевший, Мцыри томился без жалоб, не обнаруживал мук даже слабым стоном, отвергал пищу и с гордым безмолвием дожидался смерти. Как видите, он не уступает ни Измаилу, ни Арбенину в могучих силах духа, укрепленных, а не ослабленных болезнию, что мы уже заметили. Попечения монаха спасли его от смерти. В последствии окрестили его; он вырос, сделался послушником и уже готовился изречь обет монашества, как вдруг одною осеннею ночью, при смутном воспоминании о родных горах и воле, убежал из монастыря. Через несколько дней нашли его без чувств в степи. Принесенный в обитель, он перед смертью развязывает чернецу повесть своего бегства и своих ощущений вне монастырских стен.
Черта наиболее замечательная в рассказе – инстинктивное стремление к бурной жизни, пламенная жажда волнений. Две жизни, подобные той, которая проведена в монастыре, Мцыри готов отдать за одну, полную тревог:
Я знал одной лишь думы власть,Одну, но пламенную страсть:Она, как червь, во мне жила,Изгрызла душу и сожгла.Она мечты мои звалаОт келлий душных и молитвВ тот чудный мир тревог и битв,Где в тучах прячутся скалы,Где люди вольны, как орлы.Я эту страсть во тьме ночнойВскормил слезами и тоской.Это бурное сердце, не знающее и не желающее покоя, бьется также неровно и порывисто, как у Арбенина и Измаила. Описывая грозу в дремучем лесу, Мцыри с восторгом восклицает:
… О! я, как брат,Обняться с бурей был бы рад!Глазами тучи я следил,Рукою молнию ловил….Скажи мне, что средь этих стенМогли бы дать вы мне в заменТой дружбы краткой, но живой,Меж бурным сердцем и грозой?К Измаилу и Арбенину Мцыри относится так же, как один момент жизни относится к целой жизни. Мцыри умирает во цвете лет, не искушенный опытом, подобно двум первым. Рассказ его передает нам один акт, в котором обнаружились свойства могучего духа; но те же самые свойства обнаружились бы при подобном событии у Арбенина и Измаила. Форма проявления характера могла быть различна; самый характер сохранился бы неизменным.
Неизменность характера, действительно, и сохранилась, как мы видим в поэме: Боярина Орша. Удивительное пристрастие и одному и тому же типу! Ни время, ни пространство не действуют на него. Как в горце, несмотря на все пламенное отличие его от Европейцев, явился Европеец Арбенин, так в Арбенине, жителе нашего века, современнике Лермонтова, явились боярин Орша и Арсений, живший во время оно (так начинается поэма), в царствование Иоанна Грозного. Разумеется, при такой выдержанной любви к одному образу, преследовавшему воображение и мысль поэта, нельзя и требовать верно-поэтического, согласного со всеми временными и местными условиями действительности, воспроизведения лиц и событий, которые берутся из разных эпох и разных стран. Каков бы ни был родовой характер, он не лишен способности изменяться. Явления этого рода, как ступени последовательного его осуществления, не похожи друг на друга, как похожи две капли воды: и движение времени, и цвет местности кладут на них особенные отличия, так что каждое явление, не теряя родового или видового признака, тем не менее, по своим характеристическим принадлежностям, есть нечто индивидуальное, статья особая. Что же сказать, например, о таких характерах, которые возможны только в известную эпоху, при известной степени человеческого развития, и которых сформирование произошло как бы на наших глазах или, по крайней мере, на памяти ближайших наших предшественников? Откуда зашли они в век Иоанна Грозного или в пределы Кавказа? Выговариваем это замечание не с тем, чтобы поставить в вину Лермонтову его уклонения от истории в частности или от действительности вообще. Напротив, такой недостаток, в настоящем случае, имеет еще свою цену. При рассуждении о поэте нам нужен идеал, в котором выразилось духовное настроение известного общества, в известную эпоху. Чем сходственнее разные личности, как единичные явления одного и того же рода, тем легче осматривается и удобнее определяется самый род.
Таких личностей в поэме Орша две: сам Орша и Арсений. По положению своему, они враги; по своим характерам – натуры родственные. Неравенство лет, конечно, не значит здесь ничего. У Орши угрюмый, крутой нрав, никогда не слабевший перед бедами. Сходство его с Арбениным, выраженное почти тожественными стихами, мы указали выше. Другое сходство – страшная мстительность. Поступок его с дочерью еще ужасное, чем поступок Арбенина с женой. Нина, отравленная, мучится не долго, но дочь Орши умирает медленною голодною смертью, запертая в башне, где видалась с Арсением. В битве с врагами, Орша падает героем, не изменяя ни силе непреклонного нрава, ни чувству непреклонного мщения.
Арсений – второй экземпляр Мцыри, с прибавкою житейской опытности. Рассказ его о себе не толю изложением, но целыми тирадами повторяет по местам рассказ Мцыри. Справедливо будет предположить, что последний, как более обработанный, передает тот образ, который в первом, еще неясно обозначившемся очерке, зачался в фантазии поэта. Это две концепции одного и того же характера: одна, набросанная без отделки, другая – более отделанная. Из монастыря Арсений убежал к шайке разбойников,
бесстрашных, твердых как булат;Людской закон для них не снят;Война – их рай, а мир – их ад.Кто в этих чертах не распознает героев Лермонтова, непреклонных и тревожных, которых воображение, как у Саши Арбенина, еще с детства наполнялось «понятиями противообщественными»? Гордый вид и гордый дух, не смиряющийся перед судьбой, и эта самая судьба, как грозная тень Банко, все это есть в Арсении, и все это не новость для того, кому знакомы Измаил и Арбенин. Подобно Измаилу, Арсений молод; но эта молодость у них обоих отягощена бессменною думой, силою которой жизнь изживается в немногие годы, и грядущее сулит только повторение прошлых страданий:
… рассмотрев его черты,Не чуждые той красоты,Невыразимой, но живой,Которой блеск печальный свойМысль неизменная дала,Где все, что есть добра и злаВ душе, прикованной к земле,Отражено как на стекле, –Вздохнувши, всякий бы сказал,Что жил он меньше чем страдал.Мысль последнего стиха нам уже известна из слов Арбенина (в Маскараде). К довершению сходства, укажем на бесцельную жизнь Арсения; увидав остов своей возлюбленной, пожелтевший и покрытый прахом, он заключает поэму такими словами:
Иду отсюда навсегда,Без дум, без цели, без труда,Один с тоской.Если Мцыри изображает один акт из жизни могучего духа, то Хаджи-Абрек изображает одну страсть такого же духа. Страсть эта – мщение. Абрек мстит убийце своего брата, Бей-Будату, убивая его любовницу Ленду. Но эта обязанность кровавой отплаты, обычная варварским племенам, не дает однакож права видеть в Абреке человека дикого: он думает и чувствует, как разочарованный Европеец нового времени. Похоронив все, чему он верил, и что любил, Абрек находит блаженство в сладострастии преступлений. На мщение смотрит он единственно, как на утешение в несчастий, как на замену счастья. С другой стороны, Арбенин, при всем своем европеизме, по чувству мщения нисходит на степень дикаря: подозрения равны для него доказательствам; он не знает тогда ни жалости, ни помилования:
Когда обижен – мщенье, мщенье!Вот цель его тогда, и вот его закон!Средства мщения у Арбенина и Хаджи-Абрека различны, но сила мщения одинакова: в этом они сходятся как нельзя больше.
На всех этих фигурах мрачных и вместе обольстительных невыразимою красотой, которой «неизменная мысль дала печальный блеск свой», лежит печать не только фатализма, но и демонической силы. Поэтому одна из поэм Лермонтова носит название Демон. Герой её принадлежит к сфере бесплотных; но это различие несущественное: в образе его соединяются черты, которыми наделены человеческие лица, выведенные в других поэмах и повестях Лермонтова. Демону придается эпитет «печальный». Его печаль бессменна и бесконечна; она
Мечтаний прежних и страстейНесокрушимый мавзолей.Подобно Арсению, блуждает он «без цели и приюта», пустыня души его одно и то же с грудью Измаила, «опустошенною тоской». Он не чужд воспоминания лучших дней, когда он «верил и любил, не зная ни страха, ни сомнения, когда душе его не грозил унылый ряд веков». Что для падшего духа – века, то для человека – годы; пространство времени обширнее, но свойство жизни, в большем или меньшем времени совершающейся, одинаково: это свойство – уныние. Сея зло без наслаждения. Демон наскучил злом. Скука – болезнь его, наравне с душевными болезнями такой человеческой природы, какою одарены Арбенин, Измаил и Печорин. С гордостию смотрел злой дух на творение, и при этом взгляде на чаде его не отражалось ничего, кроме холодной зависти:
Природы блеск не возбудилВ груди изгнанника бесплоднойНи новых чувств, ни новых сил,И все, что пред собой он видел,Он презирал, он ненавидел.В бесплодной груди Измаила не зараждается также ничего, кроне ненависти и презрения. К тому же он и «изгнанник», только из родины, а не с неба; но для падшего ангела небо было родиной. Оба они, и Демон и Измаил, страдают сомнением, горький плод которого – бессмертная мысль, неизбежная дума. Им желалось бы «забыть незабвенное», но где взять для этого сил? Что Арбенин говорил о себе Нине, то самое, почтя теми же словами, говорит Тамаре Демон:
Какое горькое томленьеЖить для себя, скучать собойИ этой долгою борьбой,Без торжества, без примиренья,Всегда желать и не желать,Все знать, все чувствовать, все видетьИ все на свете презирать.Минуты страданий Измаила, стоящие веков печали, испытываются и Демоном в большей еще силе, невыносимой для человеков:
Что повесть тягостных лишений,Трудов и бед толпы людской,Грядущих, прошлых поколенийПеред минутою однойМоих непризнанных мучений!Наравне с Печориным, Измаилом и Арбениным, Демон Лермонтова способен пробуждаться для чувств: при виде княжны Тамары он ощутил в себе «неизъяснимое волнение». Образ его отмечен тою красотою, которой неизменная мысль как особенный блеск:
Пришлец туманный и немой,Красой блистая неземной…То не был ангел-небожитель,её божественный хранитель:Венец из радужных лучейНе украшал его кудрей;То не был ада дух ужасный,Порочный мученик, – о, нет!Он был похож на вечер ясный:Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет…Портрет дорисовывается самим действующим лицом. На вопрос Тамары: кто ты? Демон отвечает:
Я тот, кого никто не любит,И все живущее клянет;Ничто пространство мне и годы;Я бич рабов моих земных;Я царь познанья и свободы,Я враг небес, я зло природы.Наконец сходство между Демоном и теми лицами, о которых мы уже говорили, заключается в отношении их к женщинам. Сближение падшего ангела с Тамарой причинило ей гибель; ту же участь разделяют с ней Нина, Мери и Вера, возбудившие любовь в Арбенине и Печорине.
«Могучий образ врага святых и чистых побуждений» является и в Сказке для детей совершенно таким же. Он несет на себе двойное наказание – вечности и знания. Как царь немой и гордый, сияет он волшебно-сладкою красотою, при созерцании которой смертному становится страшно. Сказка изображает при том характер Нины, нисколько не похожей на Нину в Маскараде: последняя – кроткое и нежное существо, тогда как первая в кругу женщин то же, что Арбенин и ему подобные между мущинами;
……………Душа её былаИз тех, которым рано все понятно.Для мук и счастья, для добра и злаВ них пищи много; только невозвратноони идут, куда их повелаСлучайность, без раскаянья, упрековИ жалобы. Им в жизни нет уроков;Их чувствам повторяться не дано.Заметьте слово «случайность»: оно имеет здесь значение «судьбы», и таким образом отводить Нине место в ряду фаталистических существ. На жизни её, еслиб автор кончил свой рассказ, непременно легло бы влияние рока.
Теперь нам следует познакомиться с характером Печорина, героя нашего времени; но можно сказать, что мы уже с шить знакомы через посредство тех лиц, о которых говорено выше. Если и есть какое-нибудь здесь различие, то оно кроется не в сущности характера, а в более отчетливой его постановке. У Печорина ближайшее сходство с Александром Радиным (в драме Два брата), которое обнаруживается и внутренними и внешними свойствами обеих личностей: даже слова одного повторяются иногда в точности другим. Только круг действий Печорина обширнее. Радин выказывает себя в трагическом столкновении с братом и княжной Верой, а Печорин является героем нескольких повестей, образующих одно целое: сводя его со многими и разнохарактерными людьми, автор имел возможность рассмотреть его всесторонним образок и каждую сторону обрисовать полнее. Нередко сам Печорин описывает или анализирует себя; нередко и другие принимают на себя эту обязанность. Конечно, самые верные известия должны принадлежать самому герою. Многое мы узнаем от него, но это многое недостаточно, однакож, ни для того, чтобы вполне разумно объяснить характер, как естественное произведение, ни для того, чтоб оправдать его действия, как существа нравственного. И натуралист и правовед, последний еще более чем первый, встретят большие препятствия своему делу, за недостатком данных. Что передает им роман? Роман описывает героя таким образом: У него крепкое сложение, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни душевными бурями; он бешено наслаждался удовольствиями, и удовольствия наскучили ему; кружился в большом свете, и общество ему надоело; влюблялся и был любим, но любовь только раздражила воображение, а сердце оставалось пусто; в науках не нашел он также ни вкуса, ни пользы, ибо видел, что слава и счастье не зависят от них нисколько. Ему стало скучно. Этой злой скуки не разогнали ни чеченские дули, ни любовь дикарки Бэлы. Свидевшись с Максимом Максимычем после долгой разлуки, на вопрос его: «что поделывали?» он отвечает: скучал. Скука ходячая монета всех героев Лермонтова: они расплачиваются ею не только за целую жизнь, но и за каждый период её, долгий или короткий, все равно.
Какие же причины скуки?.. Вопрос почти лишний, потому что ответ на него дан уже прежними лицами: главная причина – преждевременное знание всего, знание, приобретенное я ранним опытом жизни (Печорину только двадцать пять лет) и еще более анализом недолговременной еще жизни. Арбенин (в Маскараде) видел развязку романа, прежде чем начиналась его завязка; то самое Печорин говорит доктору Вернеру: «мы знаем почтя сокровенные мысли друг друга; одно слово для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку». Так как подобные знатоки по зародышу предмета угадывают и дальнейшее его развитие, и последние плоды развития, то нисколько не удивительно, что печальное для других на их глаза смешно, и наоборот – смешное печально. Ум становится для них тягостен: он ведет к скуке; дураки им сноснее и выгоднее, потому что при глупости веселее в свете. Печорин, на ряду с Измайлов и Арбениным, мученик бессменной мысли. Постоянный анализ каждого душевного движения, каждого жизненного факта расколол его существование на две половины. В нем совершилось раздвоение. «Во мне два человека, говорит он: – один живет в полном смысле этого слова; другой мыслит и судит его». Но слово живет надобно понимать здесь только как простую противоположность слова не живет, а не как выражение полноты и свежести жизни. При анализе, этого быть не может. Вторая половина человека, мыслящая и судящая, губит первую половину живущую. Человек становится нравственным калекою, каким и стал Печорин: он живет не сердцем, а головою; у него остались одни только обломки идей, и не спасено ни одного чувства. По этому и мысль не согрета никаким чувством: анатомирование и взвешивание самого себя производится им без участия, единственно из любопытства.
Замечательно, что Печорин сам почти ничего о себе не знает. Поэтому он редко дает категорическую форму суждениям, которые могли бы определить образование его характера, и настоящее его положение. Характер свой называет он «несчастным», – название, не дающее определенного понятия о предмете. Мы видели, как в драме Маскарад, Неизвестный остается в нерешимости, чему приписать душевный холод Арбенина, «обстоятельствам или уму»; такую же нерешимость выражают слова Печорина Максиму Максимычу: «Воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, незнаю, – знаю только, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив». Что ж он такое? На этот вопрос опять нет ответа: «Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я очень достоин сожаления». Впрочем, Печорин иногда сваливает вину на других. «Душа моя, говорит он, испорчена светом». О ней можно сказать то самое, что автор, в предисловии к Герою нашего времени, сказал о русской публике: она дурно воспитана. Худые качества родились в ней от того, что другие начали предполагать их, когда их не было. Трудно поверить этому; однакож, употребим выражение самого Печорина, «это так». Когда Мери сравнила его с убийцею, он отвечает ей тою же самою тирадою, какою, по поводу такого же сравнения, Александр Радин отвечал княжне Вере (в драме Два брата). Считаем излишним выписывать это место, так как оно было уже приведено, из обоих сочинений, в статье Шестакова о юношеских произведениях Лермонтова, при разборе упомянутой драмы (Русск. Вестн. 1857, № 11).
Как сильный организм, Печорин производит на окружающих его магнетическое влияние, которое всегда разрешается бедою. Но, подобно неразумной силе рока, он не дорожит своими жертвами, даже не жалеет их. Эгоизм его переступает все пределы. Самое счастие, по его мнению, не что иное, как удовлетворенный эгоизм, насыщенная гордость. В исповеди его по этому поводу, разоблачающей внутреннее настроение, есть какое-то величие дерзости, цинизм откровенности:
«Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, во оно кривилось в другом виде: ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие, подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Бить для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то какого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей персти? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Еслиб я почина себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; еслиб все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви.»
«Есть минуты, восклицает в другом месте Печорин, я понимаю вампира.»
Таким образом снова перед нами неизбежная судьба, и Печорин, наравне с другими известными уже нам лицами, становится роковым человеком. Он подчинен высшей власти и сам для других такая же власть. Радин, в упомянутом ответе княжне Вере, говорит: «моя бесцветная молодость протекла в борьбе с судьбою и светом»; Печорин, в таком же ответе княжне Мери, изменяет несколько фразу: «моя бесцветная молодость протекла в борьбе между собой и светом». Но эта замена слова судьбою словом собой сохраняет неприкосновенною сущность признания и мысли. Печорин, как муж судьбы, и сам был судьбою не только для других, но и для себя. Борьба с собою есть вместе борьба с судьбою; и как от судьбы нельзя требовать ответов и объяснений, так и Печорин, несмотря на некоторые свои признания, мало себя объясняет, оставаясь безответным.
С тех самых пор, как он живет и действует, следовательно с самого начала жизни, если понимать под этими словами обыкновенное течение лет, или, по крайней мере, с эпохи юношества, если понимать под ними сознательность бытия, открывшуюся для Печорина слишком рано, – с тех самых пор судьба приводила его к развязке чужих драм. Он справедливо называет себя необходимым лицом пятого акта: без него не могла завершиться пиеса. Но эта пиеса была постоянно трагическим крушением надежд и счастья. Необходимое лицо, словно таинственная роковая сила или deus ex machina, разыгрывало роль палача или предателя. Судьба подвинула Печорина на разрыв Мери с Грушницким; судьба бросила его в мирный круг контрабандистов. Зачем это так было? За чем атому следовало быть так? спрашивает он сам себя. Как камень, брошенный в гладкий источник, говорит он, я тревожил его спокойствие, и как камень едва сам не тонул! «Сколько раз играл я роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления.»
Наконец Печорин, как и все его предшественники, бурной породы. У него врожденная наклонность к тревогам; тихия радости, душевное спокойствие ему не по сердцу и не к лицу.
«Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль, не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани.»