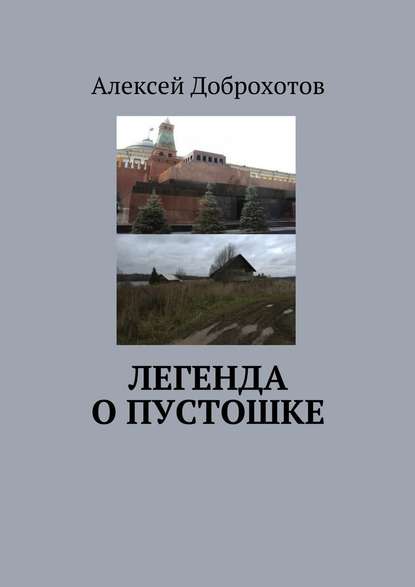По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Легенда о Пустошке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На что тот с полным безразличием ответил:
– А ты, итить твою макушку, дерьмо полное.
– Совершенно верно, – охотно согласился милиционер, – Служба у меня такая. Потому как я есть из внутренних органов.
– Тогда, итить твою макушку, давай выпьем.
– С удовольствием.
Они выпили. Откуда там оказалась литровая бутылка самогонки, никто не знает. Не то участковый с собой прихватил со стола, не то дед загодя припрятал для хорошего человека, только откушали они из нее изрядно, по очереди прикладываясь к узкому горлышку. Исстрадалась душа Афанасия по мужицкому разговору. Накопилось внутри, выплеснуть некуда. Мент, хоть и не мужик, но все же не баба. Понятие о жизни имеет. В конце концов, сгодиться и он, если больше поговорить не с кем. Тем более, что сам лезет, на душевную беседу, напрашивается.
Голова у деда дурная, на душе тошно, выпил много и натощак. Вот и понесло неискушенного старика, так, что после второго захода на горлышко он совершенно расслабился, почти разрыдался и рассказал участковому, что по молодости лет любил Надюху безмерно, мечтал жениться на ней, но она него решительно отвергла по причине прошлой его судимости. В результате всю жить промаялся с Веркой, родившей ему трех сынов. Один сын за «Родину-уродину» головушку сложил, второго «менты-скоты» за хобот прихватили, третий пропал в «черной дыре – неизвестно где». Ни деревни нет больше, ни радости никакой. И виновата во всем Надюха, и все ее кругломордные коммуняки. Потому как отказала ему в любви, потому как сгубили, сволочи, деревню, удушили трудовое крестьянство, одно отребье на земле перекатывается. Нет больше крепких хозяйств, некому растить на полях хлеб, некому Родину кормить. Был отец – молодец, всю деревню в кулаке держал, никому без дела сидеть не давал, да и того в Сибири сгноили. Пропала последняя опора, некому стало учить правильной жизни, вот и прожил лодырем – лоботрясом все свои годы, так что и вспомнить теперь нечего. Кончилась пустая жизнь, будто и не начиналась вовсе. Одно остается упиться вусмерть, потому как все надоело. Для того, что ли, войну воевали, колхозы лепили, детей рожали, чтобы потом загибаться в лесу, вдали от всего прогрессивного человечества.
Давно не встречал дед такого внимательного собеседника, давно не проявлял Василий Михайлович такого искреннего интереса к беседе. Не то задело его мелкое самолюбие пренебрежительное отношение к себе простого мужика, не то сработала общая, выработанная годами профессиональная подозрительность, только захотелось ему сотворить в ответ, по своему обыкновению, какую-нибудь гадость. Вошла в пьяную голову мысль, что неспроста селяне так спешно схоронили покойницу. Подлую натуру имел милиционер, недалекую, мстительную. Работать не любил, зато халяву хорошо чуял и фантазией особенной не отличался. А тут дело вырисовывалось живое. Виновников и искать не нужно. Вот он, сидит перед ним, кается. Припугни, надави и признается. Уже сопли во всю мотает. Решил участковый, что именно этот старик и замочил старуху. Тюкнул ночью топором по черепу, быстренько схоронил и концы в воду.
«Почему никто не сообщили о смерти? Дороги, говорите, нет? Так я же проехал. Врете, гады, – размышлял он, пока дед самозабвенно откровенничал, – Ишь рожа какая хитрая. Милицию не любит. И Верка его – стерва. Покрывает мужа. Наверняка старуха за жизнь иного денег скопила. Эти оба жадные. Вот и притюкнули. В отместку за то, что старуха на них доносы строчила. Все требовала прижучить самогонщиков. Денежки прихапали, а теперь жалятся. Но меня не проведешь. Жаль, оборвалась последняя ниточка. Кто теперь будет доносы писать? Как мы узнаем, что в деревне делается?»
– Жалко старушку стало? – спросил милиционер, прихлебывая из бутылки.
– Жалко, итить твою макушку, у пчелки, – ответил дед, – Себя, итить твою макушку, жалко. Как стали Надьку закапывать, чуть не расплакался.
– Каешься, значит?
– Каюсь, – кивнул головой Афанасий.
– Вот и правильно. Тебе это зачтется. Чем ты ее тюкнул?
– Эх, тюкнул… Кабы, итить твою макушку, еще разок тюкнуть… Мало она жизнь мне спортила, так потом еще и гнобила. Коммунизму, итить твою макушку, захотела. Я говорю, выходи, за меня, а она мне во, – показал дед участковому красный кукиш – Хочу, говорит, верховодить. На красной макушке сидеть. Пошел вон от меня со своей ходкой.
– Сидел, стало быть. По второй пошел, – прикинул мент, – Ну, и что?
– Не пара, говорит, мы… Забудь. Я ей, итить твою макушку… а она мне, итить твою макушку. Упертая. Не перегнешь. Светлый путь, говорит. А ты меня к печке? Забрало меня, затрясло – страсть. Обидно! Размахнулся, как дам ей, итить твою макушку…
– Топором?
– В морду.
– Один? Два раза?
– Она иак, итить твою макушку, и в траву повалилась.
– Ага.
– После того все, как отрезало. А-а, все одно… – махнул дед рукой, принял бутылку, приложился, – Думал, все коммунизмом покроет. А хрен вышел. Все боком. Все зря. Зря батьку сгнобили, зря крестьян побили, зря жизнь прошла… Вот, кем бы я был, итить твою макушку? Вот, кем бы я был! – сунул кулак в нос участковому, – Хозяином. Мужиком, итить твою макушку. А кем стал? Вот кем я стал, – плюнул в грязь под ногами, – Итить твою макушку… Кому это надо?.. Тебе?.. Ей?..
– Стало быть, старое вспомнил? За старое того… да? – догадался участковый.
– Схоронили – беда. Места себе не найду. Как вспомню, итить твою макушку, – тоска. За что, спрашиваю? Куда годы делись? Ничего, итить твою макушку, не осталось. Впереди бездна, пустота, мрак, – философски заключил старик.
– Значит, не отрицаешь, что виноват? – потер ладошки милиционер.
Уронил дед голову на грудь и слил по щекам слезы.
– Значит, добровольно сдаешься?
Афанасий только кивнул.
– Молодец. Давай руки, я тебя арестовывать буду, – участковый достал из кармана наручники и повертел ими на пальце перед носом разоблаченного преступника.
– Ты кто? – уставился осоловевшими глазами старик на расплывчатую физиономию чужого человека, словно впервые его увидел.
– Кто? – не понял милиционер, обернулся. Но третьего рядом не обнаружил, – Я?
– Ты.
– Донкин. Участковый. Арестовывать тебя пришел. За убийство, – пояснил Василий Михайлович.
– Кого?
– Что кого?
– Кого, итить твою макушку, тебя звал? Уйди. Мне плохо, – отмахнулся дед.
– Ты, мужик, на меня не обижайся. У меня работа такая. Ты убиваешь. Я арестовываю. Давай ласты, клеить буду. Отдай бутылку. В принципе, я тебя уважаю. Ты молодец. Самогонку варить умеешь. Не то, что эти в Селках, губошлепы. Такое пойло… башка трещит, – участковый забрал бутыль, глотнул из горлышка, блаженно зажмурился, ощущая приток живительной влаги, – Забористая. Ценю… Эх, в баньку бы сейчас… – на этой фразе голова его тихо поехала в сторону и он медленно стек с неудобной лавочки на теплую мягкую землю.
Мысль медленно погасла в гулкой голове, и глубокий сон объял истомленное трудной дорогой тело работника милиции.
* * *
– Итить твою макушку, – оценил результат Афанасий, озирая блуждающим взглядом вокруг родной двор, – Был человек, нет человека. Куда делся? Вот он! Откинул тапочки. Итить твою макушку, это же мои тапочки. Верка! Верка! Это мои тапочки!
– Господи, Василий Михайлович! Что это с ним? – выбежала на крыльцо Вера Сергеевна.
– Это мои тапочки, – поднял с земли кожаные шлепки Афанасий, – Итить твою макушку! Он их спер. Верка, мент тапки спер.
– Да не спер. Я дала, – пояснила супруга, поспешно подбегая к участковому, – Василий Михайлович, что с вами? Вы меня слышите?
– Может это и Василий Михайлович… а тапочки мои, итить твою макушку, давать не надо. Зачем? Может он больной. У него может грибок. Как я одену?
– Дались тебе тапочки. Старые это тапочки. Ты их давно не носишь. Брось, пакость всякую, – завертелась вокруг хозяйка, – Давай, поднимай его. Опять нализался! Ну, что ты с ним будешь делать!? Вот что теперь делать? Вот, сволочи, же вы какие! Опять упились, черти лохматые! Одна морока мне с вами. Откуда бутыль взял? Она для тебя припасена, что ли?
– Давай жрать, Верка, итить твою макушку.
– Щас. Жрать тебе. Бери его, говорят.
– Кого? Этого. Кто это, итить твою макушку? – наклонился старик, чуть не падая следом, – Это он пистолетом махал? А если бы стрельнул? Если бы глаз выбил? Слепым ходить? Видала, какой о… – поднял старик вверх указательный палец, – Арестовывать, итить твою макушку, пришел.
– Тебя? За что? – встрепенулась супруга.