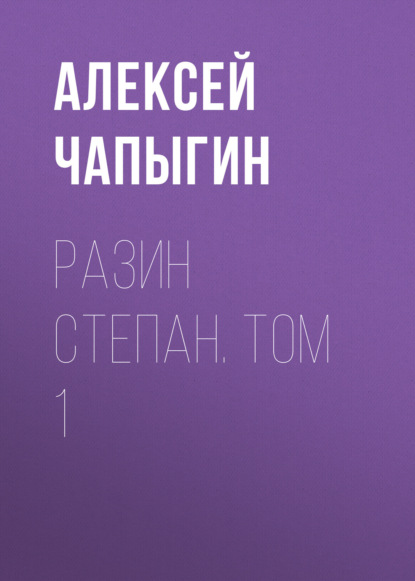По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разин Степан. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Помощник палача, не имея времени расстегнуть, срывает с дьяка длиннополый кафтан. Дьяк уронил в песок синий шелковый колпак, топчет его, не замечая, и сам топчется на месте. Руки дьяка трясутся, он дрожит, и хотя в воздухе жарко, но дьяку холодно, лицо посинело. В конце длинного козла стоит дьяк с листом приговора. Осужденный подымает голову на окно царской палаты, раскинув руки, валится в землю, закричав:
– Великий государь, смилуйся-а, прости!..
– Его поруха как? – спрашивает царь.
Дьяк с листом деловит, но, слыша царский голос, поясно кланяется, не подымая головы, и во всю силу глотки, чтобы покрыть многие звуки, отвечает:
– Великий государь, дьяк Лазарко во пьянстве ли, так ли, неведомо, сделал описку в грамоте противу царского имени, своровал в отчестве твоем…
– Сколь бить указано?
– В листе, великий государь, указано бить вора Лазарку кнутом нещадно.
– Бить его четно – в тридцать боев! Нещадно отставить и не смещать – пусть пишет, да помнит, что пишет!
Свернув приговор, дьяк с листом поклонился царю поясно. Осужденный встал с земли. Царь отошел от окна, сел на свое кресло, сказал:
– Суд бо Божий есть, и честь царева суд любит!
Палатой снова проходил стольник, царь приказал ему:
– Боярин Никита, не вели нынче рындам приходить.
– То укажу им, великий государь!
Стольник прошел, царь хотел закрыть глаза, но по палате спешно и, видимо, робко, колыхая тучными боками, шла родовитая Голицына, мамка царских детей.
– Мама! Не можно идти палатой, тут бояре ходят для-ради больших дел.
Боярыня почтительно остановилась, повернувшись лицом к царю и низко, но не так, чтобы сдвинуть на голове тяжелую кику с золотым челом и камением, поклонилась:
– Холопку твою прости, великий государь, – царевич, вишь, сбег в ту палату, и я за ним, да дойти не могу – прыткой, дай ему Бог веку…
– Поспешай… пока ништо! А царевича не пущай бегать: иные лестницы есть дорогами[97 - Д о р о г и – полосатая ткань.] крыты, под дорогой гвоздь или иное – береги мальца.
– Уж и то берегу, великий государь!
Боярыня прошла было, царь окликнул:
– Не вели, мама, у царевен в терему окошки распахнуть, чтоб девки с площади не слышали похабных слов.
– То я ведаю, великий государь!
Боярыня ушла, царь снова хотел зажмурить глаза, подумал: «Нет те покою, царь!»
Очередной караульный боярин вошел в палату, отдал царю земной поклон, встал у двери.
– С чем пришел, боярин?
– Боярин Пушкин Разбойного приказу, великий государь, с дьяком своя, – приказать ай отставить?
– Боярину прикажи, дьяку у меня нынче невместно.
Вошел коренастый чернобородый боярин, у двери упал ниц, встал и, подойдя, снова государю земно поклонился.
– Пошто не один, боярин?
– Великий государь, с Волги вести, как и ране того были, о воровстве Стеньки Разина с товарищи… Я же чту грамоты тупо, то дьяк того для волокется мною с письмом…
– Для-ради важных дел кличь дьяка… Эй, приказать дьяка!
Русобородый, русоволосый дьяк, войдя, без шапки, степенно, поясно поклонился царю, встал неслышно за боярином, развернув лист, осторожно кашлянул в руку. Царь поднял на дьяка глаза:
– Чти, дьяче!
– «Из Синбирска во 175 году июля в 29 день писал к царю, великому князю Алексею всея Русии самодержцу…»
Царь пнул из-под ног низкую скамейку, вскочил с кресла и затопал ногами:
– Что ты чтешь, сукин сын?! Куда ты дел отчество и слово – «великому государю»?
Дьяк побледнел, слегка пятясь, поклонился, лист задрожал в его руке, но он, твердо глядя в глаза царю, сказал:
– Великий государь, прибавить, убавить слово – не моя власть: чту то, что написано…
– Дай грамоту, пес!
Дьяк с поклоном передал боярину лист, боярин, еще ниже кланяясь, передал лист царю. Царь развернул грамоту во всю длину, оглядел строки и склейки листов внимательно. На его дебелом лице с окладистой бородой ярче заиграл злой румянец. Царь передал грамоту, минуя боярина, в руки дьяку, велел читать; переждав, сказал боярину:
– Кончим с грамотой, боярин Иван Петрович, а ты помету сделай – незамедлительно напиши воеводе, чтоб сыскал дьяка, кто грамоту писал, и с земским прислал того вора на Москву, а мы его здесь под окнами на козле почествуем батогами… Чти, дьяче!
– «…столник князь Дашков и прислал расспросные речи о воровских козаках: сказывал-де синбирского насаду работник Федька Шеленок: донские-де козаки – отаман Стенька Разин да ясаул Ивашко Черноярец, а с ними с тысячу человек, да к ним же пристают по их подговору Вольские ярыжки. Караван астраханской реки. А как они, воры, мимо Царицына Волгою шли, и с Царицына-де стреляли по них из пушек, и пушка-де ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил…»
Царь снова соскочил со своего тронного места, затопал ногами:
– Пушкари воруют! Таём[98 - Т а ё м – тайком.] от голов и полковников, да воевода дурак! Чти, дьяк, впредь.
– «…А стояли воры от города в четырех верстах, на Царицын прислали они ясаула, чтоб им дать Льва Плещеева да купчину кизылбашского…»
– Пошто не просили дать им самого воеводу. Вот два родовитых покойника – Борис Иванович да Квашнин боярин – какое наследье нам оставили? А я еще тогда по младости пожаловал Квашнина Разрядным приказом, Юрья же князя понизил в угоду Морозову… И ныне вижу их боярское самовольство – втай того Разина спустили из Москвы, взяв у боярина Киврина. А как старик пекся и докучал – не спущать и на том государском деле голову положил. – Царь перекрестился.
– Учинено было, великий государь, не ладно большими боярами, да поперечить Морозову никто не смел.
– Так всегда бывает, когда многую волю боярам дашь. Чти, дьяк!
Дьяк, повернувшись к образам, крестился.
– Не вовремя трудишься, дьяк!