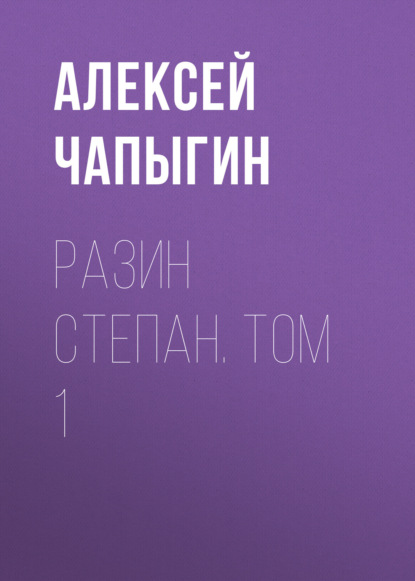По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты не вставай, не трудись – чуй!
– Чую, хозяин.
– Сей день довел мне стрелец, что атаман Стенька Разин к Самаре пригреб.
– Ой, хозяин-воевода! Ты бы маэра да солдат и стрельцов бы сполошил да пищали, пушки оглядел. А где он, страшной? Худые сказки идут про него…
– То-то, Максимовна, вишь, стрелец не все ведает: послал я своих людей прознать толком да сыскать целовальника, притащить в приказную: целовальник все ведает, как и где были воры. А на маэра худая надежда: бражник… В приводе по худым делам был не раз, и солдаты его не любят: не кормит, не одевает, как положено, забивает насмерть – солдаты от него по лесам бегут… Моя надежда на мужиков, и ты хоть меня клеплешь, да умыслил я земского старосту звать хлеба есть в воскресенье…
– Ой, в воскресенье-т Оленины именины, хозяин!
– Вот то оно и есть.
– Зови, с подношением чтобы шел староста. Скажи ему: «Воеводша-де в обиде, что восьмь алтын дает…» Пущай хоть десять – и то на румяна, притирание лица будет.
– Скажу… Только, Максимовна, везде одинакое подношение: восемь алтын две деньги.
– А ты скажи!
– Воскресенье – день праздной. В праздной день лучше чествовать именины дочки.
– Батюшка, посулы мне кто принесет и какие?
Грузная, обещающая быть как сама воеводша, вбежала в горницу воеводская дочка в девичьем венце кованом, в розовом шелковом сарафане, в шелковой желтой рубахе – на широких коротких рукавах рубахи жемчужные накапки.
– Ой, свет ты, месяц мой! – ласково сказала воеводша.
– Месяц, солнце, а только негоже бежать в горенку из своего терема… Чужой бы кто увидал – срам!
Воевода говорил шутливо, глядел весело, подошел, обнял дочь, понатужился, с трудом приподнял, прибавя:
– Не площадной дьяк – воевода, да весчие[92 - В е с ч и е – счет веса.] знаю – пуд с пять она будет в теле!..
– И слава те боже, кушат дородно!
– Эх, выдать бы ее за кого родовитого: стольника ай крайчего?..
– Батюшка, ищи мужа мне; хочу мужа, да помоложе и потонявее, да не белобрысого… Я тонявых люблю и черных волосом.
Воевода засмеялся:
– Ужо за ярыгу кабацкого дам! Те все тонявы. Родовитые тем и берут, что дородны…
– Хозяин Митрий Петрович, ну как тебе хотца судить экое, что и во снах плюнешь, – за ярыгу! Ой, скажет…
– Дочка, подь к себе. Мы тут с матерью судить будем, кого на именины твои звать, да и опасно тебе – сюда чужие люди забродят. Поди!
Боярышня ушла.
Воевода шагнул к двери горенки, стукнул кулаком.
В двери просунулся, не входя, слуга:
– Потребно чего боярину?
– Боярину и воеводе, холоп! Кличь, шли Григорея.
Слуга исчез. Вместо него в горенку степенно вошел и закрестился на образа старый дворецкий с седой длинной бородой, лысый, в узком синем кафтане.
– Ты, Григорей, у меня как протопоп!
Слуга поклонился ниже пояса, молчал. Воевода ходил по горенке и, когда подошел обратно, встал около слуги, глядя на него; дворецкий вновь так же поклонился.
– Какой сегодня день?
– Постной, боярин и воевода, – пятница!
– Та-а-к! Знаешь, ты поди завтра к земскому старосте, Ермилку, зови его ко мне на воскресенье хлеба есть… О подношении он ведает, а воеводше Дарье Максимовне особо – она у меня в обиде на мужика, что дает ей восьмь алтын два деньги, надобе ей носить десять алтын, и сколько к тому денег, знает сам, козья борода! Ты тоже бери с него позовного четыре деньги иль сколь даст больши… Поди. Можешь то извести сегодня. Да калач имениннице…
– Спит он, думаю я, боярин и воевода! Спит, и не достучишься у избы…
– Взбуди! Мужик, ништо – на боярский зов пробудится.
Слуга поклонился воеводе и воеводше – ушел.
Воеводша сказала:
– Григорей из всех слуг мне по разуму – молчит, а делает, что укажешь…
– Не молод есть, и батоги ума дали, батогов нечетно пробовал… Молчит, а позовное из старосты когтьми выскребет.
– Батоги разуму учат. Нынче я девку Настаху посеку вицами. Ты иди-ко, хозяин, негоже воеводе самому зреть.
– Умыслила тож! Да мало ли холопок бьем по всем статьям в приказной?
– То гляди – мне все едино!
– Позовешь девок, наладь кого в приказную за портками – дела делать я таки буду в ночь, да чтоб моя рухледь на глазах не лежала… Прикажи подать новые портки – шире.
Стулец опять затрещал, воеводша встала на ноги.
– Девки-и!
Переваливаясь, грузно прошла по горнице, поправила лампадки в иконостасе, замарала пальцы в масле, вытерла их о ладонь и потерла рука об руку. От золоченых риз желтело широкое, с двойным подбородком, лицо.
– Девки, стервы-ы?!
Неслышно вошли две девицы в кичных шелковых повязках по волосам, в грубых крашенинных сарафанах, прилипли плотно к стене горницы – одна по одну сторону двери, другая по другую.