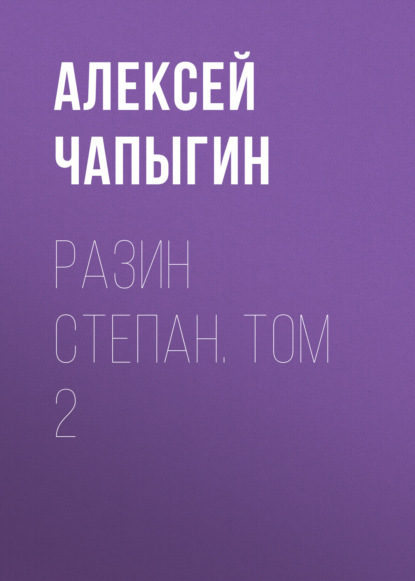По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чти, пущай слышит князь Михайло.
Подьячий отошел к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке.
– Сядь, приказую!
– Сидя, князинька, ась, мне завсегда озорко кажется.
– Сядь! Лежа заставлю чести.
Подьячий сел, дохнув в сторону вместо кашля, и начал тонким голосом:
– «Тот толмач Тришка сказывал и записал им, что-де сбираются калмыцкие тайши многи, а с ними старые воровские Даузан с Мунчаком, кои еще пол третьедесять лет назад тому воровали с воинскими людьми, а хотят идти под государевы городы – в Казанский уезд и в Царицын. Да один-де тайша пошел к Волге, на крымскую сторону, под Астраханские улусы на мирных государевых мурз и татар для воровства, да в осень же хотят идти в Самарский уезд. От себя еще показывали кои добрые люди, что-де в Арзамасе на будных станах боярина Морозова – нынче те станы за князьями Милославскими есть – поливачи и будники[52 - Рабочие поташных заводов.] забунтовались. Сыскались многие листы подметные, что-де «Стенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей идти хочет!». Да в Казанском и Царицынском краях хрестьяне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани: помещиков секут, поместя жгут, палом палят. Кои не сбегли, те по лесам хоронятся, кинув пахоту и оброки. А больше бегут бессемейные. И вам бы, господа воеводы астраханские, те вести ведомы были».
– Поди, подьячий! Князь Михайло слышит грамоту, знает теперь, пошто я Бога молю да сумнюсь.
Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся:
– Тут меня, князинька, ась, чуть не погубили люди, что я тебе на дьяков довел о скаредных речах.
– Поди, я подумаю и с тобой о том поговорю.
Подьячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся:
– Еще пошто?
– Тут, князинька, ась, пропустить ли троих козаков, от Стеньки Разина послы – тебя добираются?
– Поди и шли! Каковы такие?
Вошли три казака, одеты в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами, с крупными алмазами в кистях.
– Челом бьем воеводе!
– Здорово жить тебе!
– От батьки мы, Степана Тимофеевича.
– Да, вишь, козаки, все вы зараз говорите, не разберу, пошто я занадобился атаману. Там без меня есть воевода управляться с вами, князь Семен Львов.
– Князь Семен само собой – ты особо… К Семену с моря шли по зову eгa и государевой грамоте.
Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на Разина, именем Степан, только поуже в плечах, сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной. Поставив на стол перед воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было доверху насыпано крупного жемчуга.
По лицу воеводы скользнула радость. Мутные глаза раскрылись шире.
– За поминки такие атаману скажите от меня спасибо! И доведите ему: пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские да полон кизылбашской.
– Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, у Приказной весь – десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гилянского хана Шебынь, – их вертает, а протчей, воевода, нами раздуванен меж товарищи. Тот полон атаман дать не мочен, по тому делу, что иной полоненник пришелся на десять козаков один, а то и больше. Тот полон, воевода, иман нами за саблей в боях, за него наши головы ронены… Да еще доводит тебе атаман, чтоб стретил ты его с почестями!
– Почестей, козаки, мне, воеводе, нигде не дают, и я дать без приказу великого государя не могу. И еще скажу: сбег от вас с моря купчина кизылбашской, бил челом о сыне своем. Того купчинина сына дайте. А вез тот купчина от величества шаха в дар государю аргамаков, и тех аргамаков дайте. Об ином судить будем с атаманом вместях, как лучше.
– Аргамаки, князь-воевода, не шах послал, то нам ведомо: от имени шаха купчины царю аргамаков дарят, чтоб им шире на Москве торг был. Они в Ряше-городе закупили народ. Мы их не трогали, персы обманно положили наших четыреста голов. Тот грабеж близ Терков им был за товарищей смерть!
– Того не ведаю… Послышал как – говорю!
– Верим тебе – ты нам верь!
– Вы же Басаргу, учуг святейшего Иосифа митрополита, разорили без остатку: побрали рыбу, хлеб и учужные заводы…
– Богат митрополит, а древен. Куда ему столько добра мирского? Мы же голодны были и скудны…
– Его богатство не одному митрополиту идет – на весь Троицкой монастырь!
– Монастырю мы замест хлеба оставили утварь церковную, три сундука добрых наберется серебра. Так сказал атаман: «Выкуп ему за разоренье».
– То обсудим, как атаман будет в Астрахани… Теперь же спрошу, где ладите селиться: в слободе под Астраханью или за слободой?
Казак, похожий на Разина, ответил:
– Я есаул Степана Разина. Мне атаман наказал приглядеть место за слободой на Жареных буграх – ту нам любее, и место шире… С Дона к нам будут поселенцы, коим там голодно, – не таимся того, знай…
– Кидайте палатки и живите! Да сколь вас четом?
– Тыщи полторы наберется.
– Скажите атаману еще, чтоб много народа не сбирал: городу опас, и слободе от огней боязно – ропотить будут на меня!
– Много больных средь нас, люди мы смирные.
Казаки ушли.
Младший Прозоровский встал, беспокойно прошелся по горенке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею о полу кафтана.
– Не ладно ты, брат мой Иван Семенович, делаешь!
– Чего неладное сыскал?
– Надо бы этих воровских козаков взять за караул да на пытке от них дознаться, какие у разбойников замыслы и сколько у вора-атамана пушек и людей… Хитры они, добром не доведут правду!
– Сколь пушек, людей – глазом увидим. Млад ты, Михайло! Тебе бы рукам ход дать, а надо дать голове: голова ближе спознает правду. Вишь, Сенька Львов забежал, грамоту государеву забрал и ею приручил их. Поди, они на радостях сколь ему добра сунули!.. Я вот зрак затупил, чтя старые грамоты да про житье-бытье царей-государей… Вот ты помянул Грозного Ивана, а был Иван, дед его, погрознее, тот, что Новугород скрутил, и неторопкой был, тихой… В боях не бывал; ежели где был, то не бился, только везде побеждал… Татарву пригнул так, что не воспрянула, а все тихим ладом, не наскоком, не криком… Вот и я – думаешь, воры куда денутся? Да в наших же руках будет Стенька, едино лишь надо исподволь прибираться… Ну-ка навались нынче наскоком!.. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы те, вишь, все почесть с Стенькой в море ушли, на пятьдесят стругах; полторы тыщи их всего в Астрахани. Залетели нынче сокола – глядел ли? Крылья золотые. Ты думаешь, вечно служить стрельцам не в обиду? Скажешь, глядючи на козаков, они не блазнятся? Половина, коли затеять шум, сойдет к ворам. Глянь тогда, пропала Астрахань, а с ней и наши головы! Нет, тут надо тихо… Узорочье лишне побрать посулами да поминками, сговаривать их да придерживать, а там молчком атамана словить, заковать – и в Москву: без атамана шарпальникам нече делать станет под Астраханью… Вот! А ты руками, ногами учишь, саблей брячешь… Ой, Михайло! Я не таков… Пойдем-ко вот до дому да откушаем. Святейший митрополит придет тож: вот голова, на плечах трясется, слово же молвит – молись! Лучше не скажешь.
Воевода с братом ушли из Приказной. У крыльца им подали верховых лошадей.
По дороге воевода приказал развести по подворьям купцов разинский полон – беков и сына ханова.
3
Дни стояли светлые, жаркие. Чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними иноземцы взглянуть на грозного атамана. Слава о Разине ширилась за морем. Пошла слава от турок, которые, слыша погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидать персиянку; говорили, что княжна невиданная красавица; иные прибавляли, что «персиянка – дочь самого шаха Аббаса II, оттого-де шах идeт войной к Теркам». Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фараганским ковром. Иноземцы, зная, что атаман любит пировать, несли ему вино. За хмельное Разин отдаривал кусками шелка, жемчугами и парчой. Народ ахал, оглядывая подарки атамана. Сказки о его несметном богатстве росли и ширились.
Подьячий отошел к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке.
– Сядь, приказую!
– Сидя, князинька, ась, мне завсегда озорко кажется.
– Сядь! Лежа заставлю чести.
Подьячий сел, дохнув в сторону вместо кашля, и начал тонким голосом:
– «Тот толмач Тришка сказывал и записал им, что-де сбираются калмыцкие тайши многи, а с ними старые воровские Даузан с Мунчаком, кои еще пол третьедесять лет назад тому воровали с воинскими людьми, а хотят идти под государевы городы – в Казанский уезд и в Царицын. Да один-де тайша пошел к Волге, на крымскую сторону, под Астраханские улусы на мирных государевых мурз и татар для воровства, да в осень же хотят идти в Самарский уезд. От себя еще показывали кои добрые люди, что-де в Арзамасе на будных станах боярина Морозова – нынче те станы за князьями Милославскими есть – поливачи и будники[52 - Рабочие поташных заводов.] забунтовались. Сыскались многие листы подметные, что-де «Стенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей идти хочет!». Да в Казанском и Царицынском краях хрестьяне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани: помещиков секут, поместя жгут, палом палят. Кои не сбегли, те по лесам хоронятся, кинув пахоту и оброки. А больше бегут бессемейные. И вам бы, господа воеводы астраханские, те вести ведомы были».
– Поди, подьячий! Князь Михайло слышит грамоту, знает теперь, пошто я Бога молю да сумнюсь.
Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся:
– Тут меня, князинька, ась, чуть не погубили люди, что я тебе на дьяков довел о скаредных речах.
– Поди, я подумаю и с тобой о том поговорю.
Подьячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся:
– Еще пошто?
– Тут, князинька, ась, пропустить ли троих козаков, от Стеньки Разина послы – тебя добираются?
– Поди и шли! Каковы такие?
Вошли три казака, одеты в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами, с крупными алмазами в кистях.
– Челом бьем воеводе!
– Здорово жить тебе!
– От батьки мы, Степана Тимофеевича.
– Да, вишь, козаки, все вы зараз говорите, не разберу, пошто я занадобился атаману. Там без меня есть воевода управляться с вами, князь Семен Львов.
– Князь Семен само собой – ты особо… К Семену с моря шли по зову eгa и государевой грамоте.
Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на Разина, именем Степан, только поуже в плечах, сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной. Поставив на стол перед воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было доверху насыпано крупного жемчуга.
По лицу воеводы скользнула радость. Мутные глаза раскрылись шире.
– За поминки такие атаману скажите от меня спасибо! И доведите ему: пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские да полон кизылбашской.
– Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, у Приказной весь – десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гилянского хана Шебынь, – их вертает, а протчей, воевода, нами раздуванен меж товарищи. Тот полон атаман дать не мочен, по тому делу, что иной полоненник пришелся на десять козаков один, а то и больше. Тот полон, воевода, иман нами за саблей в боях, за него наши головы ронены… Да еще доводит тебе атаман, чтоб стретил ты его с почестями!
– Почестей, козаки, мне, воеводе, нигде не дают, и я дать без приказу великого государя не могу. И еще скажу: сбег от вас с моря купчина кизылбашской, бил челом о сыне своем. Того купчинина сына дайте. А вез тот купчина от величества шаха в дар государю аргамаков, и тех аргамаков дайте. Об ином судить будем с атаманом вместях, как лучше.
– Аргамаки, князь-воевода, не шах послал, то нам ведомо: от имени шаха купчины царю аргамаков дарят, чтоб им шире на Москве торг был. Они в Ряше-городе закупили народ. Мы их не трогали, персы обманно положили наших четыреста голов. Тот грабеж близ Терков им был за товарищей смерть!
– Того не ведаю… Послышал как – говорю!
– Верим тебе – ты нам верь!
– Вы же Басаргу, учуг святейшего Иосифа митрополита, разорили без остатку: побрали рыбу, хлеб и учужные заводы…
– Богат митрополит, а древен. Куда ему столько добра мирского? Мы же голодны были и скудны…
– Его богатство не одному митрополиту идет – на весь Троицкой монастырь!
– Монастырю мы замест хлеба оставили утварь церковную, три сундука добрых наберется серебра. Так сказал атаман: «Выкуп ему за разоренье».
– То обсудим, как атаман будет в Астрахани… Теперь же спрошу, где ладите селиться: в слободе под Астраханью или за слободой?
Казак, похожий на Разина, ответил:
– Я есаул Степана Разина. Мне атаман наказал приглядеть место за слободой на Жареных буграх – ту нам любее, и место шире… С Дона к нам будут поселенцы, коим там голодно, – не таимся того, знай…
– Кидайте палатки и живите! Да сколь вас четом?
– Тыщи полторы наберется.
– Скажите атаману еще, чтоб много народа не сбирал: городу опас, и слободе от огней боязно – ропотить будут на меня!
– Много больных средь нас, люди мы смирные.
Казаки ушли.
Младший Прозоровский встал, беспокойно прошелся по горенке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею о полу кафтана.
– Не ладно ты, брат мой Иван Семенович, делаешь!
– Чего неладное сыскал?
– Надо бы этих воровских козаков взять за караул да на пытке от них дознаться, какие у разбойников замыслы и сколько у вора-атамана пушек и людей… Хитры они, добром не доведут правду!
– Сколь пушек, людей – глазом увидим. Млад ты, Михайло! Тебе бы рукам ход дать, а надо дать голове: голова ближе спознает правду. Вишь, Сенька Львов забежал, грамоту государеву забрал и ею приручил их. Поди, они на радостях сколь ему добра сунули!.. Я вот зрак затупил, чтя старые грамоты да про житье-бытье царей-государей… Вот ты помянул Грозного Ивана, а был Иван, дед его, погрознее, тот, что Новугород скрутил, и неторопкой был, тихой… В боях не бывал; ежели где был, то не бился, только везде побеждал… Татарву пригнул так, что не воспрянула, а все тихим ладом, не наскоком, не криком… Вот и я – думаешь, воры куда денутся? Да в наших же руках будет Стенька, едино лишь надо исподволь прибираться… Ну-ка навались нынче наскоком!.. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы те, вишь, все почесть с Стенькой в море ушли, на пятьдесят стругах; полторы тыщи их всего в Астрахани. Залетели нынче сокола – глядел ли? Крылья золотые. Ты думаешь, вечно служить стрельцам не в обиду? Скажешь, глядючи на козаков, они не блазнятся? Половина, коли затеять шум, сойдет к ворам. Глянь тогда, пропала Астрахань, а с ней и наши головы! Нет, тут надо тихо… Узорочье лишне побрать посулами да поминками, сговаривать их да придерживать, а там молчком атамана словить, заковать – и в Москву: без атамана шарпальникам нече делать станет под Астраханью… Вот! А ты руками, ногами учишь, саблей брячешь… Ой, Михайло! Я не таков… Пойдем-ко вот до дому да откушаем. Святейший митрополит придет тож: вот голова, на плечах трясется, слово же молвит – молись! Лучше не скажешь.
Воевода с братом ушли из Приказной. У крыльца им подали верховых лошадей.
По дороге воевода приказал развести по подворьям купцов разинский полон – беков и сына ханова.
3
Дни стояли светлые, жаркие. Чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними иноземцы взглянуть на грозного атамана. Слава о Разине ширилась за морем. Пошла слава от турок, которые, слыша погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидать персиянку; говорили, что княжна невиданная красавица; иные прибавляли, что «персиянка – дочь самого шаха Аббаса II, оттого-де шах идeт войной к Теркам». Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фараганским ковром. Иноземцы, зная, что атаман любит пировать, несли ему вино. За хмельное Разин отдаривал кусками шелка, жемчугами и парчой. Народ ахал, оглядывая подарки атамана. Сказки о его несметном богатстве росли и ширились.