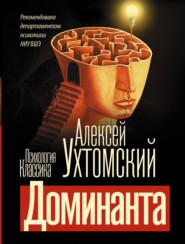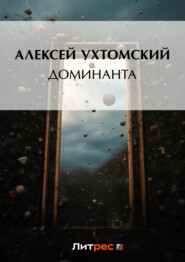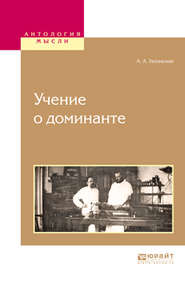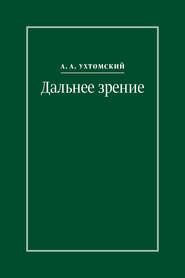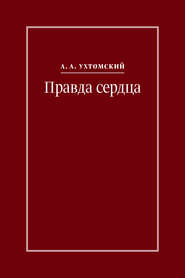По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, если действительно прогресс мысли в сведении всего душевного содержания к «покою системы», в удалении от жизненной действительности, в холодной, мертвой душевной экономии, – то все, где поработал ум, где есть обобщение и «мысли», – там коллекция с уже мертвыми растениями; тогда, где мысль – там увядание и смерть. Аскетизм, это наирациональнейшее из нравоучений, – есть в таком смысле – полная смерть. (Нравоучение буддистов и Шопенгауэра – нравоучение смерти.) «Ах, всегда только то, что увядает, что начинает терять аромат! Ах, всегда только прошедшая и истощенная буря и пожелтевшие, поздние чувства! Ах, всегда только усталые птицы, которых мы уже можем схватить рукою, – нашею рукою! Мы увековечиваем, что уже не долго можем жить и летать, мы только усталые, дряблые вещи! И это лишь склон дня для вас – мои занесенные, изображенные мысли, склон дня, для которого одного я и имею краски, много, быть может, красок, много нежных полутонов и цветов: но никто не догадается отсюда, какими вы были в ваше утро, вы внезапные искры и чудные блестки моего одиночества, вы мои старые, любимые, злые мысли!» (Ницше).
16 сентября
Можно сказать, что религия противоположена знанию, поскольку ее интерес – не покой системы, а сама действительность, в ее девственной простоте и жизненности. Наука идет своим идеалом и работою в одну сторону; религия, желая не коллекций, а жизни, – в противоположную.
Мир, научно истолкованный и истолковываемый (ибо он «научно истолкован» лишь поскольку «научно истолковывается», следовательно – в идеале) – нечто мертвое; это прекрасно поняли энергетисты в науке, теоретики знания в философии, указывая, что наука лишь поспевает сзади со своими истолкованиями за жизнью, которая все уходит вперед. Мир наиболее мертв – у механистов, у Декарта. Для психического равновесия идеалу научного знания противопоставляется идеал жизни, жизненного переживания действительности. Ибо научное знание само по себе возбуждает «жизнеразность», роковым образом не достигая своего идеала.
Шопенгауэр – «философ задумчивой юности», – превосходное определение Риля.
В прошлом году я писал о подавляющей, пропитанной ленью, монастырской традиции. В нынешнем – я в столкновении с другой, более сильной и древней, более страшной и могущественной, более глубокой и подавляющей, – традицией бессмысленного, темного, мертво-инертного, беззаботно-физиологического, «светского» перевода времени. Надо спасать личность там и тут, спасать ее на том месте, где ты находишься, – вот одно правило, почерпаемое из этого «из огня в полымя». И это настоящее применение принципа: «будь, что будет, а делай, что надобно».
В христианском духе – таинственный источник альтруистического, тихого и твердого настроения, die Halle альтруизма, как говорится по-немецки. И уже в этом он выделяется для нас на общем мертвом фоне современных «отвлеченных начал».
Прав или неправ Ницше в своих воззрениях на трагедию, но он наводит на мысли. Пользуясь его различением, я могу сказать, что признаю и ищу драматизированного эпоса (Шекспир – глава его), отрицаю же и бегаю от мифической греческой трагедии, будто бы рожденной музыкою из нее самой. Риль указывает, что Ницше сам отступает впоследствии от своего превозношения последней, подчеркивая значение диалога, его ясности и определенности, – следовательно, именно «драматизированного эпоса».
Истинная, ясная цель искусства (трагедии – главным образом) в том, чтобы воссоздать в воспоминании предметы так, как бы мы ими грезили с ясным сознанием, но не на самом деле их видели и переживали (Риль); т. е. – в том, чтобы на примерах научить относиться к фактам жизни с «ясным сознанием». В этом смысле Риль понимает превосходное выражение Шиллера (в письме к Гёте): «Поэзия, как таковая, делает все настоящее прошедшим и отдаляет все близкое чрез идеальность». Ясно отступление современного «искусства» от своего настоящего дела, когда оно имеет целью лишь «возбуждение» наслаждения, следовательно, лишь более искусственные, наркотизированные переживания действительности. В этом же смысле его оценивает Л. Н. Толстой.
Не имеет ли наша «наука» достаточное сходство вообще с исторически создающимися инерциями идей, которыми одержимо человечество? Не представляет ли она также «случайного» и причудливого разветвления, захватившего, как своего рода cancer, головы современного человечества? Не есть ли это лишь бессознательный поток психических элементов, которому подчиняется невольно человечество? Этот вопрос несомненно подразумевается теоретиками знания с тех пор, как истинным методом науки признано описание, как сам «опыт» подчинен случайному условию – подготовленности к его восприятию (как у Авенариуса), как настоящим идеалом науки выставлена экономия мысли (как у Маха). «Вечная истина» не в действительном содержании современного «научного» знания, но лишь в его пределе, движущем идеале. Вот что никто не может отрицать.
20 сентября
Мое давящее, инертное настроение безделья, очевидно, создается не обстановкой, но коренится своим началом во мне самом; оно началось во мне еще тогда, когда я терял драгоценное время в Академии, часами просиживал после обеда в академическом коридоре, не видя, не подозревая, как уже мало осталось тете, моей единственной, Богом данной старушке быть со мною. Я менял уже тогда тетины слова, близость тети, мой дорогой, незабвенный ученый стол около нее, – на бессмысленную болтовню, бессмысленное празднословие со студентами. Это не могло остаться безнаказанным.
Философ – это человек самой обширной ответственности, у него совесть для всего совокупного развития человечества.
Приходит утро; по улице уже шныряют лоточники, стекольщики, кухарки. Но в комнатах еще торжественная тишина и мрак от штор и занавесей: они еще спят… Только за 10 часов наступает «момент пробуждения» с кофеем и другими окончательными возбуждающими средствами, позволяющими перейти к дневным занятиям, из коих первое и серьезное – умывание и чистка разных частей тела, продолжающееся немного менее получаса и совершаемое с торжественностью, подобной той, с какою патер совершает действие над алтарем в костеле (сходству способствуют кружева и выхоленная одутловатость лиц). Далее, впрочем, наступают менее значительные занятия: помимо обязательных, обычаем освященных, обеда и ужина – выбор остального в полной свободе личности и так до склона дня… Связи между действиями нет; каждый момент дня, каждое действие – самоцель. Очевидно – сила авторитета обычая. И вот жизнь!..
Состояние опьянения, поскольку оно отражается на умственной стороне души, можно сравнить с напряженным растягиванием содержания этой стороны души, как полотна; то, что наиболее слабо в этой умственной ткани, – не выдерживает и разрывается; что связано покрепче, все-таки обнаруживает швы и нитки; связи же и швы, наиболее крепкие, напрягаясь и растягиваясь, становятся заметными, тогда как ранее казалось, что тут сплошная ткань. Произвести такую пробу в своем умственном инвентаре иногда очень полезно: ведь то, что способно без особого труда распасться в нашей душе, – во всяком случае, уже не надежно.
Ницше начал с эстетической метафизики, затем перешел в приверженцы «единого данного существования, которое у метафизиков называется „представлением“» (Риль), т. е. в приверженцы Гераклитовского духа бывания, становления и движения. Я начал с религиозной метафизики и, с кандидатским, перешел также в сущности к духу Гераклитовского мышления, к энергетике в широком смысле слова. Второй период Ницше – это мой теперешний период. С Корпуса, под влиянием Долбни, я привык думать, что «цель культуры достижима чрез великий интеллект… что жизнь есть дело и средство к познанию, – жизнь есть эксперимент познающего» (Риль). Это дух Декарта. Аналогия мне является очевидной.
Ницше вовсе не «проницательный», кабинетный, ученый ум. Он, например, не заметил (во второй период своего развития), что выставляя творцом моральных ценностей не отдельное сознание, а «коллективный индивидуум» – общество, государство, он или впадает в petitio principii и, значит, не объясняет ничего, или силе неделимого противопоставляет силу общества и, таким образом, не подрывает, а проповедует царство «инстинкта насилия». Ницше сам весь под инстинктами, весь под властью «идей-сил», весь в эмоциях. Вчера – он был романтический мечтатель морали самозабвения; сегодня – он проповедник морали разума. умственное прозрение становится на место «образа действия по моральным чувствованиям» (Риль). Ницше в высшей степени полезен, как талантливый, сильный выразитель носящихся в воздухе, бродящих эмоций и идей; но он предоставляет читателю еще крупную задачу – передумывать, систематизировать, связать все это.
Отсюда ясна возможность вреда и пользы от чтения Ницше.
Ницше в первый свой период ‹…› столь же превосходный, образцовый выразитель миросозерцания чувствований, как во второй свой период ‹…› образцовый по силе и цельности выразитель миросозерцания разума в духе И. П. Долбни.
24 сентября
Чистый, свежий воздух над тетиной могилой, влага от идущих по Иосифовскому озеру валов, пропитанный сыростью и лесной затхлостью воздух над Иосифовским монастырем, – вот воспоминание о каких впечатлениях возвращает меня в прежнюю, присущую мне колею, направляет меня по житейским волнам по присущему мне курсу, – способно остановить меня от ошибочных шагов, предостеречь, чтобы я не давал развиться в себе тому, что не в интересах моей душевной жизни. Тогдашняя, продолжительная, нараставшая привычка постоянно знать одно настоящее, эпическое отношение «Я» и «действительность», сроднилось с моею душою и стало одною из ее крепостных стен.
Этика самозабвения – или романтическая болтовня, или грустная аномалия. Настоящая этика, конечно, считает главною целью воспитание и самовоспитание добрых инстинктов в человеке (досознательных качеств души). Но раз развившись, перешедши в поле сознания, они должны быть ясными и живыми идеями, органически сросшимися с Я. Значит, в здоровой нравственной деятельности интерес к Я вполне ясен, и лишь там мы действуем нравственно хорошо, где действуем хорошо для себя. Отсюда очевидна доля истины у Святогорца, когда он говорит в одном месте, что надо спасать сначала себя, а потом других.
Ницше – один из тех людей, у которых надо учиться святому презрению к окружающим взглядам и мнениям. Впрочем, Кант тут во всяком случае симпатичнее Ницше, – расшибал молча и в тиши взгляды этих «окружающих», не бранясь, не позируя, и так, что те имеют возможность, не раздражаясь, оставаться при своих насиженных взглядах.
26 сентября
Неужели я не рассчитал свои силы и «влюблюсь» в Настю прежде, чем отучу ее от себя? Это мне кажется тем больше вероятным, чем больше вижу признаков, что ее начинают отстранять от меня…
Всякий идеал равноценен с прочими, имеет право на существование, – раз появившись, выяснившись в сознании человечества. Ницше в свой последний период вылепил, поставил на очередь идеал независимости человека; этот идеал несомненно чувствуется уже давно в истории жизни человечества. И он – противовес других идеалов.
27 сентября
Я хочу быть служителем нашего, переживаемого, великого и прекрасного времени; хочу быть его носителем.
29 сентября
Мой опыт, моя жизнь сзади меня. Более мне не надо, достаточно его с меня. Теперь и до конца – время его передумывания, философии. Передумывание, философия прошлого опыта жизни – вот главное определение моей деятельности: моего поступления на естественный факультет – прежде всего. Забывая это, погружаясь в новое переживание, я отступаю от своей задачи, оставляю свое дело, покидаю «путь истины».
Относительно ближних, друзей моих прежде всего, – мое дело сочувствие, любовь и развитие воли – всегда им помочь. Но мои отношения к ним отнюдь не должны включать в себя хотя бы тень личного экстенсивного искания или побуждения.
Вот вкратце вся моя этика, все мое определение.
Мне хочется врезаться в самую глубину этих мест, где люди считают себя думающими теперь no преимуществу. Сам я имею над чем подумать. Прошлый опыт жизни, когда я его живо вспоминаю, приводит меня в содрогание силой вопросов, которые им во мне возбуждены. В этом-то пережитом, в громадной силе этого пережитого, в чем, конечно, первое место занимает для меня тетя, ее конец, – кроется то, что достаточно сильно, чтобы всегда сохранить мой дух на страже, всегда возобновить, поддержать во мне свободный дух философа, не преклоняющийся пред средой, где он живет.
Два пути, две сокровищницы мысли известны мне и современному мне человечеству, в которых оно может черпать ответ на вопросы жизни: первый, завещанный мне воспоминанием и лучшим временем юности, – путь христианской и святоотеческой философии; второй – в науке, который есть метод по преимуществу. Почему, откуда это роковое разделение путей, имеющих одну цель впереди себя? Не составляют ли эти два пути по существу одно? – вот вопрос, всю полезную важность которого я пойму, вероятно, лишь когда буду ближе к его решению, но которым занимаюсь прежде всего.
Для головы современного «свободного мыслителя» в духе Мережковских и т. п. очевидно – содержание итальянского Ренессанса легче вынести; и этою легкостью объясняется, что о нашей обиходной литературе мы теперь могли бы подумать, что, пожалуй, Ренессанс исчерпался этим безмысленным эстетизмом, о котором поют эти несносные писатели и подтягивают им еще более несносные светские дамы. В текущей литературе нет ничего о германском ренессансе, т. е. об истинном возрождении культуры человечества, и это потому, что его великое содержание, охватывающее все стороны душевной жизни, – не под силу умственно и нравственно убогим людям.
1 октября
Метод богословской науки, какой я предлагаю (историко-психологический), рассматривает религию, как нечто, имеющее случайно (историко-психологические) основания. Но это не может служить ему упреком после того, как наукою понято, что самое различение «случайного» и «необходимого» имеет лишь историко-психологическое значение.
Искание и радость беспечального опыта – вот черта, особенно характерная для научного духа. И в ней-то коренная разница духа, лежащего в основе науки, с духом пессимистической философии, философии подавляющего опыта.
Всенощная. Впер. 2 октября
Не уверяйте, не говорите, что я что-нибудь значу для вас; а то я в самом деле, пожалуй, подумаю, что я что-нибудь, и это доставит мне мучение. Что Я, чтобы людям думать обо мне действительно? Что Я, чтобы мне считать себя действительно значущим для людей? Вот основание, дающее мне великое успокоение в обстоятельствах жизни.
3 октября, утро
Относительно Половцевых меня теперь интересует лишь одно: чем кончится наше знакомство? Дай Бог, – чтобы мы разошлись на следующем перекрестке с добрыми чувствами в душе.
6 октября
Кстати, скажу, что моя коллизия, связанная для моей душевной жизни с именем Насти Половпевой, есть очень аналогичная коллизия «аскетического идеала» с более непосредственными максимами, причем не ясно, как осветить ее с точки зрения собственно христианской морали.
6 октября
Когда я обращаюсь к себе, чтобы отдать себе отчет, что такое происходит со мною, когда при мне говорят о разных молодых людях, близких к Насте, когда, быть может с целью, хвалят при мне разные качества этих молодых людей, – то я не вижу в себе ничего более, кроме совершенно бессознательного и ревнивого стремления к Насте, сопряженного с каким-то особым чувством в груди, с особым «общим чувством». Это тем более выясняется мне из того, что в часы спокойного размышления и с точки зрения более возвышенных стремлений я понимаю, что для меня лучше, если Настя найдет и полюбит другого человека, – ибо сближение с Настей пахнет для меня концом моей духовно и материально свободной научной карьеры.
11 октября
Что такое «жизненная опытность»? Дурища, много видавшая и ничего не понявшая…
Как можно знать Бога из опыта, когда это не ощущение, а идея, или сумма представлений? Вопрос, иронически поставленный Чичериным Вл. С. Соловьеву в рецензии на «Оправдание добра». Совершенно верно, Бог есть суммированная обширнейшая группа представлений. Но мы знаем из опыта, что эта группа имеет громадную силу в нашем душевном обиходе. Ведь из того, что химический элемент вдруг выражается после того, как мы прошли через ряд безразличных в химическом смысле сочетаний веществ, не значит еще, что мы знаем его из опыта. Что он в нашем сознании есть лишь группа представлений, это ничему ведь не мешает. Точно таким же сочетанием является группа представлений «Бог».
У Карамзина рассыпано много хороших философских мыслей (разговор с Кантом, со студентом о бессмертии по дороге в Лейпциг, о театре), притом не в трудном для тогдашнего русского общества систематическом изложении, а в форме легких заметок, легко усваивающихся и оставляющих впечатление, наряду с интересными путевыми описаниями. Если для большинства Карамзин являлся в «Переписке» таким пропагандистом, внушителем идей, то для образованного меньшинства, знакомого тогда уже и увлекающегося Вольтером и Руссо, – он был первым из земляков, на своем родном языке и в такой увлекательной форме повторивший призыв от «природы» к «свободе» этих писателей. Открыли ли «Письма» глаза современникам на действительность жизни тогдашней Европы, действительную картину этой жизни? Во всей вероятности – нет, как не открывается она и нам. Центр тяжести все время во внутреннем душевном мире путешественника, многое во вне остается им незамеченным (например, французская революция), и если оставить в стороне его описательные элементы, мы читаем у Карамзина лишь его мысли и идеи, возбужденные в нем теми или другими местами. В «Письмах» образованные и в теории знакомые более или менее с Европой современники Карамзина могли видеть, что пережил один из них, лучший из них, и что пережили бы они сами на его месте. А это должно было значительно сблизить их с тем миром, откуда вышли известные им Руссо, Вольтер, Еёте, Шекспир, Геллерт, Кант и др.
16 сентября
Можно сказать, что религия противоположена знанию, поскольку ее интерес – не покой системы, а сама действительность, в ее девственной простоте и жизненности. Наука идет своим идеалом и работою в одну сторону; религия, желая не коллекций, а жизни, – в противоположную.
Мир, научно истолкованный и истолковываемый (ибо он «научно истолкован» лишь поскольку «научно истолковывается», следовательно – в идеале) – нечто мертвое; это прекрасно поняли энергетисты в науке, теоретики знания в философии, указывая, что наука лишь поспевает сзади со своими истолкованиями за жизнью, которая все уходит вперед. Мир наиболее мертв – у механистов, у Декарта. Для психического равновесия идеалу научного знания противопоставляется идеал жизни, жизненного переживания действительности. Ибо научное знание само по себе возбуждает «жизнеразность», роковым образом не достигая своего идеала.
Шопенгауэр – «философ задумчивой юности», – превосходное определение Риля.
В прошлом году я писал о подавляющей, пропитанной ленью, монастырской традиции. В нынешнем – я в столкновении с другой, более сильной и древней, более страшной и могущественной, более глубокой и подавляющей, – традицией бессмысленного, темного, мертво-инертного, беззаботно-физиологического, «светского» перевода времени. Надо спасать личность там и тут, спасать ее на том месте, где ты находишься, – вот одно правило, почерпаемое из этого «из огня в полымя». И это настоящее применение принципа: «будь, что будет, а делай, что надобно».
В христианском духе – таинственный источник альтруистического, тихого и твердого настроения, die Halle альтруизма, как говорится по-немецки. И уже в этом он выделяется для нас на общем мертвом фоне современных «отвлеченных начал».
Прав или неправ Ницше в своих воззрениях на трагедию, но он наводит на мысли. Пользуясь его различением, я могу сказать, что признаю и ищу драматизированного эпоса (Шекспир – глава его), отрицаю же и бегаю от мифической греческой трагедии, будто бы рожденной музыкою из нее самой. Риль указывает, что Ницше сам отступает впоследствии от своего превозношения последней, подчеркивая значение диалога, его ясности и определенности, – следовательно, именно «драматизированного эпоса».
Истинная, ясная цель искусства (трагедии – главным образом) в том, чтобы воссоздать в воспоминании предметы так, как бы мы ими грезили с ясным сознанием, но не на самом деле их видели и переживали (Риль); т. е. – в том, чтобы на примерах научить относиться к фактам жизни с «ясным сознанием». В этом смысле Риль понимает превосходное выражение Шиллера (в письме к Гёте): «Поэзия, как таковая, делает все настоящее прошедшим и отдаляет все близкое чрез идеальность». Ясно отступление современного «искусства» от своего настоящего дела, когда оно имеет целью лишь «возбуждение» наслаждения, следовательно, лишь более искусственные, наркотизированные переживания действительности. В этом же смысле его оценивает Л. Н. Толстой.
Не имеет ли наша «наука» достаточное сходство вообще с исторически создающимися инерциями идей, которыми одержимо человечество? Не представляет ли она также «случайного» и причудливого разветвления, захватившего, как своего рода cancer, головы современного человечества? Не есть ли это лишь бессознательный поток психических элементов, которому подчиняется невольно человечество? Этот вопрос несомненно подразумевается теоретиками знания с тех пор, как истинным методом науки признано описание, как сам «опыт» подчинен случайному условию – подготовленности к его восприятию (как у Авенариуса), как настоящим идеалом науки выставлена экономия мысли (как у Маха). «Вечная истина» не в действительном содержании современного «научного» знания, но лишь в его пределе, движущем идеале. Вот что никто не может отрицать.
20 сентября
Мое давящее, инертное настроение безделья, очевидно, создается не обстановкой, но коренится своим началом во мне самом; оно началось во мне еще тогда, когда я терял драгоценное время в Академии, часами просиживал после обеда в академическом коридоре, не видя, не подозревая, как уже мало осталось тете, моей единственной, Богом данной старушке быть со мною. Я менял уже тогда тетины слова, близость тети, мой дорогой, незабвенный ученый стол около нее, – на бессмысленную болтовню, бессмысленное празднословие со студентами. Это не могло остаться безнаказанным.
Философ – это человек самой обширной ответственности, у него совесть для всего совокупного развития человечества.
Приходит утро; по улице уже шныряют лоточники, стекольщики, кухарки. Но в комнатах еще торжественная тишина и мрак от штор и занавесей: они еще спят… Только за 10 часов наступает «момент пробуждения» с кофеем и другими окончательными возбуждающими средствами, позволяющими перейти к дневным занятиям, из коих первое и серьезное – умывание и чистка разных частей тела, продолжающееся немного менее получаса и совершаемое с торжественностью, подобной той, с какою патер совершает действие над алтарем в костеле (сходству способствуют кружева и выхоленная одутловатость лиц). Далее, впрочем, наступают менее значительные занятия: помимо обязательных, обычаем освященных, обеда и ужина – выбор остального в полной свободе личности и так до склона дня… Связи между действиями нет; каждый момент дня, каждое действие – самоцель. Очевидно – сила авторитета обычая. И вот жизнь!..
Состояние опьянения, поскольку оно отражается на умственной стороне души, можно сравнить с напряженным растягиванием содержания этой стороны души, как полотна; то, что наиболее слабо в этой умственной ткани, – не выдерживает и разрывается; что связано покрепче, все-таки обнаруживает швы и нитки; связи же и швы, наиболее крепкие, напрягаясь и растягиваясь, становятся заметными, тогда как ранее казалось, что тут сплошная ткань. Произвести такую пробу в своем умственном инвентаре иногда очень полезно: ведь то, что способно без особого труда распасться в нашей душе, – во всяком случае, уже не надежно.
Ницше начал с эстетической метафизики, затем перешел в приверженцы «единого данного существования, которое у метафизиков называется „представлением“» (Риль), т. е. в приверженцы Гераклитовского духа бывания, становления и движения. Я начал с религиозной метафизики и, с кандидатским, перешел также в сущности к духу Гераклитовского мышления, к энергетике в широком смысле слова. Второй период Ницше – это мой теперешний период. С Корпуса, под влиянием Долбни, я привык думать, что «цель культуры достижима чрез великий интеллект… что жизнь есть дело и средство к познанию, – жизнь есть эксперимент познающего» (Риль). Это дух Декарта. Аналогия мне является очевидной.
Ницше вовсе не «проницательный», кабинетный, ученый ум. Он, например, не заметил (во второй период своего развития), что выставляя творцом моральных ценностей не отдельное сознание, а «коллективный индивидуум» – общество, государство, он или впадает в petitio principii и, значит, не объясняет ничего, или силе неделимого противопоставляет силу общества и, таким образом, не подрывает, а проповедует царство «инстинкта насилия». Ницше сам весь под инстинктами, весь под властью «идей-сил», весь в эмоциях. Вчера – он был романтический мечтатель морали самозабвения; сегодня – он проповедник морали разума. умственное прозрение становится на место «образа действия по моральным чувствованиям» (Риль). Ницше в высшей степени полезен, как талантливый, сильный выразитель носящихся в воздухе, бродящих эмоций и идей; но он предоставляет читателю еще крупную задачу – передумывать, систематизировать, связать все это.
Отсюда ясна возможность вреда и пользы от чтения Ницше.
Ницше в первый свой период ‹…› столь же превосходный, образцовый выразитель миросозерцания чувствований, как во второй свой период ‹…› образцовый по силе и цельности выразитель миросозерцания разума в духе И. П. Долбни.
24 сентября
Чистый, свежий воздух над тетиной могилой, влага от идущих по Иосифовскому озеру валов, пропитанный сыростью и лесной затхлостью воздух над Иосифовским монастырем, – вот воспоминание о каких впечатлениях возвращает меня в прежнюю, присущую мне колею, направляет меня по житейским волнам по присущему мне курсу, – способно остановить меня от ошибочных шагов, предостеречь, чтобы я не давал развиться в себе тому, что не в интересах моей душевной жизни. Тогдашняя, продолжительная, нараставшая привычка постоянно знать одно настоящее, эпическое отношение «Я» и «действительность», сроднилось с моею душою и стало одною из ее крепостных стен.
Этика самозабвения – или романтическая болтовня, или грустная аномалия. Настоящая этика, конечно, считает главною целью воспитание и самовоспитание добрых инстинктов в человеке (досознательных качеств души). Но раз развившись, перешедши в поле сознания, они должны быть ясными и живыми идеями, органически сросшимися с Я. Значит, в здоровой нравственной деятельности интерес к Я вполне ясен, и лишь там мы действуем нравственно хорошо, где действуем хорошо для себя. Отсюда очевидна доля истины у Святогорца, когда он говорит в одном месте, что надо спасать сначала себя, а потом других.
Ницше – один из тех людей, у которых надо учиться святому презрению к окружающим взглядам и мнениям. Впрочем, Кант тут во всяком случае симпатичнее Ницше, – расшибал молча и в тиши взгляды этих «окружающих», не бранясь, не позируя, и так, что те имеют возможность, не раздражаясь, оставаться при своих насиженных взглядах.
26 сентября
Неужели я не рассчитал свои силы и «влюблюсь» в Настю прежде, чем отучу ее от себя? Это мне кажется тем больше вероятным, чем больше вижу признаков, что ее начинают отстранять от меня…
Всякий идеал равноценен с прочими, имеет право на существование, – раз появившись, выяснившись в сознании человечества. Ницше в свой последний период вылепил, поставил на очередь идеал независимости человека; этот идеал несомненно чувствуется уже давно в истории жизни человечества. И он – противовес других идеалов.
27 сентября
Я хочу быть служителем нашего, переживаемого, великого и прекрасного времени; хочу быть его носителем.
29 сентября
Мой опыт, моя жизнь сзади меня. Более мне не надо, достаточно его с меня. Теперь и до конца – время его передумывания, философии. Передумывание, философия прошлого опыта жизни – вот главное определение моей деятельности: моего поступления на естественный факультет – прежде всего. Забывая это, погружаясь в новое переживание, я отступаю от своей задачи, оставляю свое дело, покидаю «путь истины».
Относительно ближних, друзей моих прежде всего, – мое дело сочувствие, любовь и развитие воли – всегда им помочь. Но мои отношения к ним отнюдь не должны включать в себя хотя бы тень личного экстенсивного искания или побуждения.
Вот вкратце вся моя этика, все мое определение.
Мне хочется врезаться в самую глубину этих мест, где люди считают себя думающими теперь no преимуществу. Сам я имею над чем подумать. Прошлый опыт жизни, когда я его живо вспоминаю, приводит меня в содрогание силой вопросов, которые им во мне возбуждены. В этом-то пережитом, в громадной силе этого пережитого, в чем, конечно, первое место занимает для меня тетя, ее конец, – кроется то, что достаточно сильно, чтобы всегда сохранить мой дух на страже, всегда возобновить, поддержать во мне свободный дух философа, не преклоняющийся пред средой, где он живет.
Два пути, две сокровищницы мысли известны мне и современному мне человечеству, в которых оно может черпать ответ на вопросы жизни: первый, завещанный мне воспоминанием и лучшим временем юности, – путь христианской и святоотеческой философии; второй – в науке, который есть метод по преимуществу. Почему, откуда это роковое разделение путей, имеющих одну цель впереди себя? Не составляют ли эти два пути по существу одно? – вот вопрос, всю полезную важность которого я пойму, вероятно, лишь когда буду ближе к его решению, но которым занимаюсь прежде всего.
Для головы современного «свободного мыслителя» в духе Мережковских и т. п. очевидно – содержание итальянского Ренессанса легче вынести; и этою легкостью объясняется, что о нашей обиходной литературе мы теперь могли бы подумать, что, пожалуй, Ренессанс исчерпался этим безмысленным эстетизмом, о котором поют эти несносные писатели и подтягивают им еще более несносные светские дамы. В текущей литературе нет ничего о германском ренессансе, т. е. об истинном возрождении культуры человечества, и это потому, что его великое содержание, охватывающее все стороны душевной жизни, – не под силу умственно и нравственно убогим людям.
1 октября
Метод богословской науки, какой я предлагаю (историко-психологический), рассматривает религию, как нечто, имеющее случайно (историко-психологические) основания. Но это не может служить ему упреком после того, как наукою понято, что самое различение «случайного» и «необходимого» имеет лишь историко-психологическое значение.
Искание и радость беспечального опыта – вот черта, особенно характерная для научного духа. И в ней-то коренная разница духа, лежащего в основе науки, с духом пессимистической философии, философии подавляющего опыта.
Всенощная. Впер. 2 октября
Не уверяйте, не говорите, что я что-нибудь значу для вас; а то я в самом деле, пожалуй, подумаю, что я что-нибудь, и это доставит мне мучение. Что Я, чтобы людям думать обо мне действительно? Что Я, чтобы мне считать себя действительно значущим для людей? Вот основание, дающее мне великое успокоение в обстоятельствах жизни.
3 октября, утро
Относительно Половцевых меня теперь интересует лишь одно: чем кончится наше знакомство? Дай Бог, – чтобы мы разошлись на следующем перекрестке с добрыми чувствами в душе.
6 октября
Кстати, скажу, что моя коллизия, связанная для моей душевной жизни с именем Насти Половпевой, есть очень аналогичная коллизия «аскетического идеала» с более непосредственными максимами, причем не ясно, как осветить ее с точки зрения собственно христианской морали.
6 октября
Когда я обращаюсь к себе, чтобы отдать себе отчет, что такое происходит со мною, когда при мне говорят о разных молодых людях, близких к Насте, когда, быть может с целью, хвалят при мне разные качества этих молодых людей, – то я не вижу в себе ничего более, кроме совершенно бессознательного и ревнивого стремления к Насте, сопряженного с каким-то особым чувством в груди, с особым «общим чувством». Это тем более выясняется мне из того, что в часы спокойного размышления и с точки зрения более возвышенных стремлений я понимаю, что для меня лучше, если Настя найдет и полюбит другого человека, – ибо сближение с Настей пахнет для меня концом моей духовно и материально свободной научной карьеры.
11 октября
Что такое «жизненная опытность»? Дурища, много видавшая и ничего не понявшая…
Как можно знать Бога из опыта, когда это не ощущение, а идея, или сумма представлений? Вопрос, иронически поставленный Чичериным Вл. С. Соловьеву в рецензии на «Оправдание добра». Совершенно верно, Бог есть суммированная обширнейшая группа представлений. Но мы знаем из опыта, что эта группа имеет громадную силу в нашем душевном обиходе. Ведь из того, что химический элемент вдруг выражается после того, как мы прошли через ряд безразличных в химическом смысле сочетаний веществ, не значит еще, что мы знаем его из опыта. Что он в нашем сознании есть лишь группа представлений, это ничему ведь не мешает. Точно таким же сочетанием является группа представлений «Бог».
У Карамзина рассыпано много хороших философских мыслей (разговор с Кантом, со студентом о бессмертии по дороге в Лейпциг, о театре), притом не в трудном для тогдашнего русского общества систематическом изложении, а в форме легких заметок, легко усваивающихся и оставляющих впечатление, наряду с интересными путевыми описаниями. Если для большинства Карамзин являлся в «Переписке» таким пропагандистом, внушителем идей, то для образованного меньшинства, знакомого тогда уже и увлекающегося Вольтером и Руссо, – он был первым из земляков, на своем родном языке и в такой увлекательной форме повторивший призыв от «природы» к «свободе» этих писателей. Открыли ли «Письма» глаза современникам на действительность жизни тогдашней Европы, действительную картину этой жизни? Во всей вероятности – нет, как не открывается она и нам. Центр тяжести все время во внутреннем душевном мире путешественника, многое во вне остается им незамеченным (например, французская революция), и если оставить в стороне его описательные элементы, мы читаем у Карамзина лишь его мысли и идеи, возбужденные в нем теми или другими местами. В «Письмах» образованные и в теории знакомые более или менее с Европой современники Карамзина могли видеть, что пережил один из них, лучший из них, и что пережили бы они сами на его месте. А это должно было значительно сблизить их с тем миром, откуда вышли известные им Руссо, Вольтер, Еёте, Шекспир, Геллерт, Кант и др.