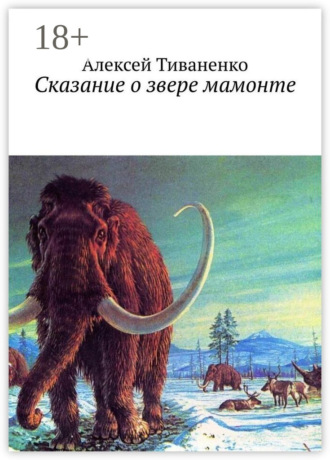
Сказание о звере мамонте
Интересно, что за экспедицией А. А. Бунге – Э. В. Толля внимательно следила общественность Сибири. «Иркутская летопись» Н. С. Романова (Иркутск, 1993) сообщает за 1884 год: «30 октября. Доктор Бунге изучал фауну и особенно был занят отыскиванием мамонта». (С. 109). А за 1886 год появляется следующая информация: «6 июля. Географический отдел получил известие об экспедиции доктора Бунге: 26 февраля барон Толль отправился к месту, где был найден мамонт и донес, что в мамонте не оказалось мягких частей, но есть много интересных данных относительно сохранения допотопных зверей в мерзлой почве Сибири». (С. 136).
Коллекции Бунге и Толля изучал геолог И. Д. Черский. Высоко оценив полученные научные результаты в познании законов преобразования животного мира, он высказался за необходимость продолжения поисков мамонтов и других животных за Полярным кругом. В 1890 году на общем собрании Академии наук он предложил направить на Колыму, Индигирку и Яну новую экспедицию хотя бы на 3 года. Директор Геологического комитета академик А. П. Карпинский в прениях сказал:
– Сообщения о мамонтах всегда вызывали и будут вызывать большой интерес. Эта тема необъятна потому, что мы о них мало знаем. Говорят, что на севере Сибири часто обнаруживаются трупы мамонтов, но достоянием науки пока что стал только скелет, доставленный Адамсом. Он действительно украшает академический музей, а о трупе мамонта даже думать пока не приходится. Полагаю, что Академия наук должна изыскать возможности послать новую экспедицию на север Сибири.
По просьбе И. Д. Черского, руководителем новой поисковой экспедиции назначили его самого. Она состоялась в 1891 – 1892 годах. В числе задач входило изучение местонахождений сразу двух трупов мамонтов, обнаруженных в районе р. Анабара, а также между Балахной и Хатангским заливом. Но раскопки их стояли последними в списке многих поручений, и поэтому вышли за пределы отпущенного Академией срока полевых работ. В 1692 году Черский писал открывателю одного из ископаемых животных М. М. Санникову: «Одна из главнейших целей экспедиции заключается в геологическом изучении почвы, в которой встречаются остатки мамонтов и других ископаемых животных, приобретение более или менее хорошо сохранившегося трупа мамонта (или другого какого-либо животного того времени) имело бы громадное значение для науки».
Далее он дал ему поручение: «Если слух о находке мамонта не принадлежит к числу возможных выдумок, покорнейше прошу вас уведомить меня об этом письменно, а вашей первою заботою должно быть сбережение его от возможных повреждений или же совершенного уничтожения. Поэтому необходимо:
1. Озаботиться, чтобы труп, если он открылся около самой реки или озера, не оборвался бы в воду и не был бы ею снесен или затоплен. Способ такого предохранения вы можете лучше продумать, так как это зависит от чисто местных условий.
2. Обеспечив его от затопления, необходимо принять меры, чтобы труп не испортился до того времени, когда мне будет возможно заняться им лично. Для этого хорошо было бы сделать над ним покрышку из древесных стволов или жердей, вроде балагана, предохраняя его дерном от дождей и солнца; если же довелось бы завалить труп землей, то прежде всего, для сбережения шерсти, необходимо его прикрыть, например, хотя бы подержанными оленьими шкурами шерстью кверху и т. п.
Для всего этого, понятно, необходимы некоторые средства; но если только труп этот хорошо сохранился, даже в том случае, если у него хорошо сохранилась голова с хоботом и ушами, то впредь до моего приезда вам необходимо обратиться за содействием в Верхоянскому окружному исправнику, которому я писал об этом».
Одновременно из канцелярии Иркутского генерал-губернатора 25 января было послано уведомление губернатору Якутской области: «Академия наук телеграммою от 16 текущего января просит меня поставить в известность мещанина Санникова в с. Казачьем, чтобы он отнюдь не трогал и не показывал никому заявленного им трупа мамонта впредь до прибытия летом 1894 году в долину р. Яны ученого путешественника Черского, которому Академия поручает раскопку трупа» (Госархив Якутии, ф. 12 п, оп. 1, д. 9464, л. 57).
К сожалению, поездки Черского к мамонту Санникова не получилось. По дороге из Верхне-Колымска в Якутск обострилась его старая болезнь, и он почувствовал скорую смерть. Однако продолжал переписку с директором Зоологического музея Ф. Ф. Плеске, поторапливая с посылкою инструкции, каким образом можно обеспечить сохранность трупа мамонта и перевезти его в Петербург в целом или расчлененном виде. 10 мая Черский предупредил секретаря Академии наук о возможной смерти и передаче дел по управлению экспедицией своей жене Мавре Павловне. Ученый скончался в устье реки Прорвы вблизи небольшой заимки Колымской.
Завершить дело Черского было поручено экспедиции Э. В. Толля и Е. И. Шилейко в 1892 – 1893 годах. Предстояло произвести раскопки двух трупов мамонтов и доставить их в столицу. 16 апреля 1893 года Толль писал: «На месте мамонта мною проведены уже исследования, которые выяснили безусловное отсутствие целого трупа мамонта. Все, что мною найдено – это немного костей с свежим мозгом, несколько кожи и волос». Также информировал губернатора Якутской области, что имеет поручение от Академии наук «произвести разведки мамонта, найденного около 400 верст от Усть-Яна, и доставить его, в случае находки целого трупа, до Булуна на реке Лене», а также «при возможности произвести научные исследования на реке Анабаре». (Госархив Якутии, ф. 12, оп. 1, д. 9464, л. 113). Однако здесь ученого ждала неудача, о чем Толль докладывал в Академию наук: «Место объявленного мамонта на реке Санга-Юрях, по картам Сангирях, находится в 70 верстах на восток от Айджергайдаха. Разведки мои пока доказали, что целого мамонта ни теперь, ни в 1890 году, не было. Нашлись только некоторые части скелета; в костях сохранился мозг. В 1890 году тут же была, вероятно, хорошо сохраненная часть (бок или нога). С тех пор песцы и весенние воды успели уничтожить весьма ценный остаток». (Там же, л. 132). Второго мамонта Э. Толль искать не стал, полагая, что и там его ждут немногие разрозненные кости уничтоженного зверями животного.
Брезовский мамонт
Удача пришла лишь в начале ХХ века. Одно из самых замечательных открытий было сделано в 1900 году на берегу реки Березовки – правого притока р. Колымы, в 300 верстах от Среднеколымска. Березовский мамонт стал едва ли не самым знаменитым во всей истории поисков мерзлых трупов волосатых гигантов суши. Обнаружил его охотник-ламут Семен Тарабыкин, преследуя стадо диких оленей по Колымской тундре. В одном месте его собака вдруг остановилась, понюхала воздух и побежала в сторону от оленьей тропы. Выясняя в чем дело, Тарабыкин пошел следом и в речном обрыве увидел торчащий из земли бивень мамонта на огромной обнаженной голове, частично обглоданной волками. Далее из мерзлой ледяной глыбы выступал горб животного, покрытый густой шерстью. От трупа шел неприятный гнилостный запах разлагающегося на солнце мяса. Помня о существующем среди ламутов поверье о том, что вытаивающие трупы неизвестных животных приносят несчастье тем, кто их увидел, испуганный охотник позвал собаку, начавшую грызть хобот, и бросился бежать от страшного места.
Прослышав о находке и купив оторванный друзьями Тарабыкина Василием Детковым и Михаилом Топчинским бивень животного с прилипшими к нему бурыми волосами урядник И. Явловский, зная про объявленное вознаграждение Академии наук, прибыл на место находки. Там он убедился в правдивости рассказов охотников и тут же купил у них право распоряжаться тушей мамонта. Урядник прикрыл обнажившиеся части туловища грунтом и ветками, после чего информировал местное начальство о находке. Был послан курьер к губернатору Якутской области.
На этот раз цепочка чиновников сработала четко: в апреле 1901 года известие о находке на реке Березовке пришло в Петербург. К письму была привосокуплена объемистая посылка с куском кожи и пучком шерсти. Заинтересовавшись сообщением, ученые тут же организовали Березовскую экспедицию на 1901 – 1902 годы, щедро снабдив поисковиков деньгами. Им ставилась задача «раскопать и доставить труп мамонта в музей Академии наук в возможно целом виде». Ведь столько ходит в народе разговоров о якобы живущем до сих пор огромном волосатом слоне Заполярья, из Сибири привозят немало его костей, но полностью таинственного обитателя северной тундры во плоти еще никто не видел. Уже 3 мая академическая экспедиия выехала в Якутию. Возглавил ее старший зоолог Зоологического музея О. Герц, сопровождали его препаратор Е. Пфиценмайер и геолог П. Севастьянов.
Сначала экспедиция Академии наук при поддержке властей быстро добралась по железной дороге до Иркутска, оттуда на лошадиных тройках ученые мчались до Качуга, далее лодками сплавлялись по реке Лене до Якутска, затем верховыми лошадьми следовали по тайге и болотам, переплывали студеные реки, преодолевали заснеженные высокие горные хребты, и, наконец, на оленьих и собачьих упряжках достигли реки Березовки на Колыме. И вот он – цельный труп земного «доисторического» гиганта!
Труп принадлежал еще молодому животному, но, тем не менее, весил более двух тонн. Он как бы сидел на своих задних ногах, подогнув их под брюхо, опираясь на передние. Создавалось впечатление, что мамонт провалился в скрытую в ледяной толще яму (точнее, под лед болота), из которого не мог выбраться. Исследования подтвердили догадку: у животного оказалось несколько тяжелых переломов костей. Смерть, очевидно, наступила быстро в осеннюю пору, так как во рту на хорошо сохранившемся розовом языке и между зубами были найдены остатки еще не разжеванного корма. Это были разного рода лиственные растения и травы, уже имевшие семена.
Конечно, жаль, что труп подвергся нападению хищников там, где части его тела выступали наружу. Больше всего пострадала голова, но на ней, к счастью, сохранилась кожа, имелся хобот, уходивший концом в ледяной грунт. Досадно, что и он имел рваные раны от клыков, но их легко скрыть во время музейной реставрации.
Сразу возник вопрос, а как вывезти тяжелую тушу, если под рукою не было ничего, кроме небольших собачьих санок? Оставался единственный выход – расчленить тело на небольшие куски, но сохранить целиком шкуру для чучела, с точностью позже воспроизведенного с помощью скелета в Зоологическом музее.
Между тем наступали ранние зимние холода, и мясо мамонта начало замерзать. Но проблема состояла в другом – основная часть туловища все еще покоилась в ледяной глыбе земли. Кайла может повредить труп, теплая вода быстро остывает, превращаясь в лед. Костры тоже разжигать нельзя из-за опасности подпалить шерсть. В конечном итоге решили построить над мамонтом отапливаемый барак из бревен и вести раскопки по мере оттаиваемого грунта. Две железные печки топились день и ночь. Поливали землю теплой подогреваемой водой, прорыв для стока отводную канавку. С каждым днем туша исполина обнажалась все больше. Рабочие скребли талую землю с утра до ночи. Собирали даже малейшие клочки бурой шерсти: волосы промывали от налипшей грязи в теплой воде и упаковывали в мешки.
Расчленение давалось не с меньшим трудом. Толстая двухсантиметровая шкура, могучие твердые мускулы и сухожилия плохо поддавались разделке. Ломались стальные ножи. Невозможно было дышать запахом разложения плоти в условиях замкнутого прогреваемого пространства тепляка. Препаратор Пфиценмайер жаловался, что его везде преследует трупный запах. Люди часто выходили из барака, чтобы подышать свежим воздухом. Зоолог Герц работал уверенно: сначала отделил голову, потом лопатки и часть ребер. Потом извлекли желудок с не переваренной пищей, что впервые дало возможность выяснить в лабораторных условиях, чем же питались мамонты. Стопы ног сохранили целыми. Хотя серое от времени мясо казалось вполне съедобным, попробовать его никто из членов экспедиции не рискнул, уступив место за трапезой собаками, что они и делали с превеликим удовольствием.
На раскопки ушел целый месяц. Поджимали сроки: до весны находку нужно было доставить в Петербург, пока труп не растаял. На упаковку частей туши в кожаные и полотняные мешки ушло еще две недели. Выяснилось, что мамонт весил более 100 пудов. Отдельно упаковали мешок мерзлой крови. И вот длинный обоз то на оленях, то на лошадях отправился в обратный путь. Молили бога, чтобы он продлил зиму морозами, пока не добрались до Иркутска, а не то в случае весеннего потепления раскисший труп потеряет научную ценность, и работа экспедиции окажется напрасной. И, отвечая на мольбы палеонтологов, зима в тот год составила рекордные 60 градусов мороза. В Иркутске экспедицию ожидал специальный железнодорожный вагон-холодильник. 6 февраля 1902 года ценную находку погрузили в вагон и почтовый поезд повез мамонта в столицу. Через 13 дней экспедиция была уже дома. Весть о транспортируемом «доисторическом» животном летела по телеграфу впереди поезда. На станциях собирались толпы народа с просьбой показать «живого» мамонта. Герц и Пфиценмайер стали героями дня. (Русанов Б. С. Внимание: мамонты! – Магадан, 1976).
Иркутск также не был безучастным к мамонтовой эпопее, начиная с первых дней работы экспедиции. «Иркутская летопись» за 1901 год сообщала: «17 мая. В Иркутске находится экспедиция, направленная Академией наук для раскопок мамонта. Едут старший зоолог Зоологического музея г. Герц и препаратор музея Пфиценмайер. Труп мамонта находится в р [еке] Березовой, впадающей в р. Колыму в 100 в [ерстах] от С [еверо] -Колымска. Путь от Якутска до места нахождения мамонта составляет 3300 верст. На экспедицию отпущено 11300 р.». (Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881 – 1901 гг. – Иркутск, 1993. – С. 455). Следующая запись датирована 5 февраля следующего года: «5 февр [аля] находится проездом зоолог Музея Академии наук г. Герц и Пфиценмайер, возвращ [ающиеся] из командировки в Якут [скую] область и везущие в СПб откопанного ими мамонта». (Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902 – 1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 14).
А 27 февраля 1902 года на заседании Академии наук состоялось чествование членов экспедиции. В отчете говорилось: «О. Ф. Герц и С. Ф. Пфиценмайер доставили труп мамонта в таком состоянии, который превзошел все ожидания. Академия наук обладает в настоящее время единственным в мире объектом, оценить который невозможно. Значение этой находки в научном отношении громадно. Новый вырытый труп мамонта, содержащий в себе все части тела этого ископаемого животного, за исключением хобота, может разъяснить много спорных и темных вопросов, как относительно внутреннего и наружного строения его, так и относительно условий его жизни, его корма и современной ему флоры». Особое значение ученые придавали возможности изучить «значительное количество пищи, заключавшейся в желудке, на зубах и на языке». (Ширина Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на Северо-Восток Азии в дореволюционный период. – Новосибирск, 1983). А в 1903 году в Зоологическом музее было выставлено для обозрения чучело Березовского мамонта – уникальный экспонат, подобного которому до сих пор нет ни в одном музее мира. Искусством препараторов-таксидермистов животному была сохранена даже поза, в котором оно было найдено, заделаны повреждения, нанесенные туше хищниками. В 60-х годах ХХ столетия был установлен с помощью радиоуглеродного анализа абсолютный возраст Березовского мамонта: он погиб 44 тысячи ллет тому назад.
Итоги всестороннего изучения Березовского мамонта за 15 лет были опубликованы тремя академическими томами. Было установлено, что это животное паслось на заливных лугах выше устья р. Колымы. Зрелые плоды осок, злаков и других степных растений показывали, что он внезапно погиб в самый разгар лета или ближе к осени. (Сукачев В. Н. Исследование растительных остатков из пищи мамонта, найденного на р. Березовке Якутской области // Научные результаты экспедиции, снаряженной Академией наук для раскопки мамонта, найденного на р. Березовке в 1901 г. – Т. III. – 1914. – С. 1 – 13; Толмачев А. Н. Растительность эпохи мамонта в Арктической Сибири // Дневники Всесоюзн. Съезда ботаников в Ленинграде в январе 1928 г. – Л., 1928. – С. 132 – 133).
Условия, в которых был найден труп, показали, что Березовский мамонт погиб в результате несчастного случая, упав либо в земную трещину, либо свалившись с некоего возвышения. Падая, животное осело всей тяжестью на задние ноги туловища. При этом грузное тело зверя рухнуло с такой силой, что треснули кости таза и сломалась плечевая кость. Полный косой перелом правой плечевой кости и сложный перелом обеих тазовых костей вызвали разрыв кровеносных сосудов и кровоизлияние в груди животного. (Герц О. Отчет начальника экспедиции Академии наук на р. Березовке // Известия АН. – Т. XVI. – 1902. – С. 137 – 174). Следы обильного кровоизлияния в области спины, у лопаток, в свою очередь, объясняются тем, что сверху на мамонта обрушилась масса подтаявшей земли, причинившая ему своей тяжестью новый сильный ушиб. Обследование показало: животное, лишенное воздуха, умерло от удушья. В таком положении и застали труп исследователи во время раскопок 1901 года. (Бялыницкий-Бируля Ф. А. Микроскопические исследования отложения на сломанной правой плечевой кости мамонта, найденного на р. Березовке, близ Средне-Колымска // Научные результаты экспедиции, снаряженной Академией наук для раскопки мамонта, найденного на р. Березовке в 1901 г. – Т. I. – СПб, 1903. – С. 144 – 153).
Березовский мамонт, согласно давней реконструкции Ж. Кювье, по анатомическим признакам напоминал современного индийского слона, но с некоторыми отличиями. У него имелось более неуклюжее тело, высота по отношению к длине была чуть меньше, чем у современных слонов. Голова его составляла половину туловища. Он имел короткий хвост, заканчивавшийся пучком длинных щетинистых волос черного цвета. Тело мамонта отличалось от слонов более выгнутой «горбообразной» спиной, а задняя часть опускалась вниз более круто. Такой экстерьер животного с удивительной точностью передан в скульптурах и рисунках древнего человека – его современника. (Гарутт В. Е. Опыт пластической реконструкции внешнего облика шерстистого мамонта // Вестник ЛГУ. – №3. – 1946. – С. 138 – 140). Но самое главное отличие состояло в том, что мамонт был покрыт густой шерстью черно-бурого или красновато-бурого цвета, особенно пышной по бокам нижней части туловища. Она напоминала меховую оторочку из длинных волос, представляя, собственно говоря, подстилку во время отдыха на снегу. Другой характерной особенностью мамонта являлись его бивни, т.е. резцы, громадные, спирально загнутые верхушками внутрь и вверх. (Зеленский В. Остеологические и одонтологические исследования над мамонтом (Elephas primigenius Blum.) и слонами (El. Indicus и El. Apric. Blum) // Научные результаты экспедиции, снаряженной Академией наук для раскопки мамонта, найденного на р. Березовке в 1901 г. – Т. I. – СПб, 1903; Он же: Видовые зоологические признаки мамонта //Там же. – Т. II. – С. 36 – 40).
Мамонты ХХ столетия
Замерзшие трупы мамонтов будут находить в Заполярье еще многие годы по мере оттаивания оледенелой тундры. В ХХ столетии их останки находили не менее часто, чем в предыдущие столетия, но только малая часть делалась достоянием ученых. Как правило, это в основном скелеты с остатками мягких тканей, но среди них есть одно исключение – это остатки трупа мамонта, найденного на острове Большой Ляховский в 1906 году, в настоящее время экспонируемый в Национальном музее естественной истории в Париже (Франция). Но о нем чуть позже.
В 1907 году в Академии наук вспомнили о не раскопанном санга-юряхском мамонте, что не стал делать Э. Толль. В феврале 1908 года экспедиция К. А. Волоссовича и Е. В. Пфиценмайера выехала из Петербурга. До Якутска ехали без задержек, но там пришлось долго ждать оленьих упряжек, чтобы продолжить путь. От села Казачьего ехали на собачьих упряжках по голой тундре еще 500 верст. На этот раз тундра местами была оголена от снега, так что часто приходилось спрыгивать с нарт и идти по колено во мху и пожухлой траве. Днем тундру заволакивало моросящим густым и тяжелым туманом Арктики. Было холодно и неуютно. В первый день перехода собаки проделали около 100 верст. На шестой день показался, наконец, Санга-Юрях. Проводник-каюр В. Дьяков показал место, где много лет назад Санников обнаружил труп мамонта. Всю ночь над палатками, в которых расположилась экспедиция, бушевала снежная пурга.
Останки мамонта лежали в русле реки, подмывающей береговой обрыв. Разожгли костер, нагрели воду, которой начали отмывать от грязи хорошо сохранившийся череп исполина с бивнями. Потом отыскали часть хобота. После расчистки оказалось, что труп лежал на правом боку, где и сохранились куски мяса, шерсть темно-бурого цвета и кости ног мамонта. Впрочем, многих костей так и не нашли. Упаковав находки, экспедиция завершила раскопки и поехала в обратный путь. В Булуне на р. Лене за экспедицией пришел специально зафрахтованный пароход.
Во время доклада академику Ф. Б. Шмидту К. А. Волоссович заявил, что на острове Большой Ляховский в акватории Северного Ледовитого океана он ранее исследовал еще один труп мамонта, состоя в экспедиции барона Э. В. Толля. Нашел его охотник Алексей Горохов на дне ручья в долине р. Этериканка, на северо-востоке острова Большой Ляховский. Это была голова мамонта в коже, с хоботом и двухпудовым бивнем. Горохов выломал бивень и отрубил кусок хобота на корм собакам. Раскопать его и привезти в Петербург не было времени. А теперь он готов ехать туда с новой экспедицией. Но Шмидт ответил, что вряд ли Правительство даст на это деньги, ибо работами на Березовке и Санга-Юряхе интерес к таким предприятиям «насытился».
Деньги нашлись у графа А. В. Стенбок-Фермора, который, не раздумывая, предоставил средства на экспедицию. Но с условием, что останки мамонта станут его личным достоянием. Экспедиция состояла из прежнего состава исследователей: К. А. Волоссович, Е. В. Пфиценмайер, В. Дьяков. В Казачье прибыли в конце апреля 1909 года. Мамонта на острове нашли без труда. Он лежал на правом боку. На левой половине туши волосатая шкура и мясо животного были обгрызены, но кости скелета лежали в анатомическом порядке. Их не надо было искать в окрестностях, как в Санга-Юряхе. Отчлененную голову с бивнями, кожей, ухом и глазом, а также хостом, кусками мыжц с жиром завернули в брезент. Летом раскопали еще много кусков мяса, жира и обрывков кожи с шерстью со спины и правого бока.
Пролив Ледовитого океана замерзал медленно. Нарты с собаками прибыли только в феврале, но их оказалось недостаточно. Поэтому большую часть мамонтова мяса пришлось оставить на месте в вырытом ледяном погребе. Весной 1910 года ценную находку по зимней дороге доставили из Якутска в Иркутск и далее до столицы. В Петербурге он оказался не в музее Академии наук, а у того, кто финансировал экспедицию к Ляховскому мамонту – графа Стенбока. Правда, специальная обработка и препарирование частично пострадавших в пути останков мамонта проводилась в пригороде столицы поселке Лахта, но затем находка стала достоянием спонсора. В 1912 году он на очень выгодных для себя условиях вывез скелет ископаемого слона во Францию и передал через Правительство страны музею Парижской Академии наук, где он находится и сейчас. За это усердие А. Ф. Стенбок-Фермор был удостоин «Ордена Почетного Легиона». Но свои затраты на экспедицию граф возместил продажей мягких тканей мамонта другим парижским музеям.
Руководство Российской Академии наук, осознав свою ошибку, в 1913 году профинансировало на Таймыр экспедицию Кутоманова за новым объявленным скелетом мамонта, но он оказался гораздо худшей сохранности, чем ляховский. Справедливости нужно сказать, что вскоре во Франции в долине реки Аа был найден и смонтирован в Булонском музее почти полный скелет еще одного, «местного» мамонта. После этого интерес к поискам замерзших трупов ископаемых животных на Крайнем Севере в России надолго упал. (Тихонов А. Н. Мамонт. – М.-СПб, 2005).
В советское время интерес Академии наук СССР к мамонтам возник не сразу. Революция, гражданская война, восстановление разрушенной промышленности и сельского хозяйства – не до научных интересов было. И только в 1938 году, посетивший Зоологический музей в Ленинграде Президент Академии наук В. Л. Комаров поинтересовался у палеонтологов, а случались ли находки мамонтов после экспедиции Волоссовича? Оказалось, что новых приобретений за эти годы не происходило. Да и от местных аборигенов Сибири больше известий о трупах не поступало. Академик посоветовал обратиться за помощью к населению и разъяснить им научную важность таких поисков. Тем более, что не все знают, кому принадлежат громадные костные останки. Директор Зоологического института В. В. Бялыницкий-Бирюля с таким доводом согласился и напомнил академику курьезный случай, чуть не приведший к большим затратам. Не далее как два года назад Институт получил сообщение начальника острова Врангеля о находке там трупа мамонта. Была организована экспедиция под руководством В. К. Крисса, зафрахтован пароход с рефрижератором во Владивостоке. Но вскоре начальник внес уточнение: изо льда на острове вытаивает не мамонт, а современный кит.

