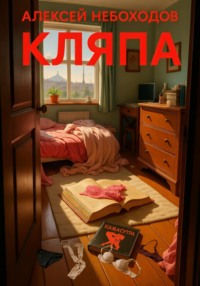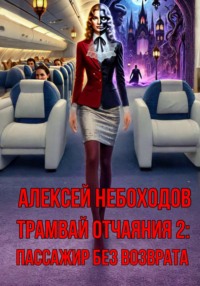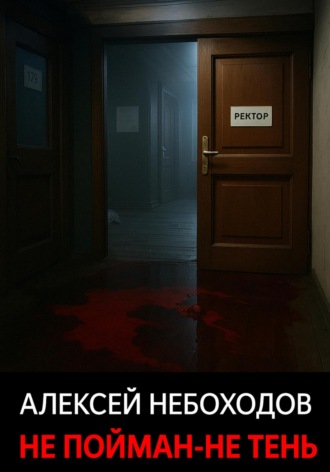
Не пойман – не тень
Эти завтраки давно стали похожи на утренние совещания: собрались, обменялись короткими репликами, разошлись. Он не мог вспомнить точно, когда исчезло живое, но теперь его тревожило другое: что будет дальше, если однажды исчезнут даже эти формальные встречи? Не пустота, а полное отсутствие повода даже изобразить семью.
Воронин отвёл взгляд, взял чашку и сделал глоток. Сила этих мыслей была неприятна – и неуместна. Он не позволял себе ностальгии. Не сейчас, не за столом, не накануне важного заседания.
В доме царил порядок. Всё шло своим чередом.
Сергей Андреевич всегда был таким, или ему только казалось? Быть может, многое из того, что он теперь называл «характером», выросло не из природы, а из принуждения. Из бесконечной череды ежедневных решений, каждое из которых в отдельности ничего не значило, но вместе сложились в то, чем он стал: человек, застывший в правильной форме. Профессор не задавался этим вопросом вслух. Ему было достаточно знать, что форма надёжна. Что она держит.
Воронин родился в небольшом подмосковном посёлке, где всё было серым – дома, улицы, лица прохожих. Отец, железнодорожный мастер, человек крепкий, молчаливый, с пальцами, вечно пахнущими машинным маслом, говорил мало, но так, что слова отскакивали, как сталь от стали. Мать, учительница биологии, была строга, точна и, пожалуй, единственным светлым элементом в той тусклой среде. Именно от неё мальчик унаследовал интерес к науке и манеру всегда выглядеть безупречно, даже когда не было смысла – чистая сорочка, выглаженные брюки, прямой пробор и ровный взгляд в глаза. Она часто повторяла: «То, как ты выглядишь, – это то, как ты относишься к жизни».
В детстве Сергей не был ни душой компании, ни тихоней. Просто держался особняком. Не потому что хотел, а потому что иначе не умел. Его ровесники дрались, смеялись, гоняли мячи по пыльным площадкам, а он сидел дома, читал, рисовал схемы, аккуратно подшивал статьи из старых журналов, найденных в школьной библиотеке. Ему нравилось, как выглядит порядок – в биологических системах, в таблицах, в структуре клеток. Всё, что можно было рассчитать, рассортировать, объяснить – вызывало у него ощущение безопасности.
Когда юноша поступил в биофак МГУ, ему казалось, что он прибыл туда, где все – такие, как он. Сосредоточенные, серьёзные, одержимые знанием. Он ошибался. Оказалось, что и среди ботаников были любимчики преподавателей, авантюристы, харизматики, притягивающие к себе внимание без малейшего усилия. Сергей не умел быть таким. Не умел шутить с лёгкостью, привлекать взгляды. Но он умел ждать и работать.
Будущий профессор взял на себя больше, чем требовалось: дополнительные часы в лаборатории, ночные дежурства, подработки ассистентом. Спал по четыре часа, ел в столовой, забывая, что съел. Он выстроил себя, как выстраивают модель: слой за слоем, отбрасывая лишнее, укрепляя главное. Не за одни сутки – за годы.
Именно тогда в молодом человеке родилось то, что впоследствии станет основой всей его жизни – ощущение, что эмоции мешают. Что слабость – это не слёзы и не испуг, а любое проявление себя, которое нельзя проконтролировать. Сергей Андреевич научился улыбаться уместно, говорить уверенно, держать паузы с точностью до секунды. Он превратил себя в того, кем восхищаются и кому завидуют. И это работало.
После защиты диссертации Воронина пригласили в научную группу при институте, где он продержался недолго – слишком амбициозный, слишком независимый, слишком опасный для тех, кто сидел на месте десятилетиями. Он быстро понял, что не впишется в их игры, и ушёл в университет – не в глушь, нет, но в зону, где можно было править в одиночку. Преподавал, публиковал статьи, постепенно строил кафедру «под себя». Не потому, что хотел власти. А потому, что иначе его бы съели.
Всё это шло параллельно с жизнью. Свадьба с Ольгой, красивой, тонкой, тогда ещё искренней девушкой, в которую он когда-то был влюблён по-настоящему. Поначалу они вместе работали, спорили, спорили красиво, с умом. Она понимала мужа. Умела остановить. Но годы сделали своё. Её потребность в близости и его потребность в контроле не совпали. Они начали отдаляться, не ругаясь, не крича – просто отходили друг от друга на шаг каждый день. Профессор уходил в работу, супруга – в детей, в стиль, в идею «хорошей жизни». В какой-то момент они просто перестали говорить.
Дети выросли. Александр стал зеркалом – холодным, расчётливым, блестящим. Тот же аналитический ум, тот же ледяной взгляд, только без следа душевного тепла. Виктория – совсем другая. Мягкая, ранимая, искренняя до боли. Она была тем, кем он сам не позволял себе быть. Иногда Сергею Андреевичу казалось, что он ею гордится, но чаще – боялся за неё. Боялся, что её распахнутость миру разобьётся о тот же лёд, с которым он сам уже научился дружить.
Воронин никогда не считал себя плохим человеком. Просто верил, что человек – существо подчинённое рациональности. Что страсть – это плохо управляемая химия. Что совесть – социальный механизм. Что любовь – всего лишь гормональная привязанность, которую можно преодолеть усилием воли. Профессор не был циником. Он был систематиком.
Сергей знал, как выстроить курс лекций, чтобы никто не заметил усталости. Как выбрать галстук под настроение аудитории. Как говорить с деканом, чтобы тот чувствовал себя значимым. Как завести интрижку со студенткой, не нарушив границ приличия, но заставив её чувствовать, будто она исключение.
Он никогда не говорил себе, что манипулирует. Просто называл это стратегией.
С годами в профессоре стало больше утончённости. Он всё реже терял терпение. Всё чаще смотрел на других как на фигуры на шахматной доске – каждый с определённым маршрутом, скоростью и зоной действия. Научился ценить детали – складки на блузке, интонации, с какой подают кофе, паузы между словами. Эти детали говорили больше, чем слова.
И вместе с этим в нём поселилась тишина. Не покой – а именно тишина. Та, которая растёт в человеке, когда ему не с кем говорить по-настоящему. Воронин мог говорить с кем угодно – уверенно, ярко, эффектно. Но говорить – и быть услышанным – это были разные вещи. И он давно не знал, хочет ли быть услышанным вообще.
Профессор не думал о себе, как о злодее. Он выполнял функции. Поддерживал порядок. Следил за собой, за кафедрой, за формой. Был профессором. Мужем. Отцом. Всё это – роли. Но внутри, под всем этим, существовал некий центр – твёрдый, холодный, молчаливый. Он не смотрел туда часто. Но знал, что там – он настоящий. Без улыбок. Без интонаций. Без оправданий.
Именно этот центр помогал ему пережить любой кризис. Когда студенты устраивали бойкот – он знал, что это временно. Когда жена перестала касаться его – он знал, что это удобно. Когда Александр начал спорить с ним на равных – он понимал, что это нормально. Когда Виктория смотрела на отца с разочарованием – он знал, что это пройдёт.
Сергей Андреевич всегда знал. И потому не боялся.
Но последнее время в нём появилось нечто новое – ощущение, что кто-то знает о нём больше, чем должен. Что кто-то смотрит прямо в этот центр. Не в образ, не в поведение, а вглубь. И смотрит не с восхищением – а с насмешкой. Как будто говорит: «Ты не уникален. Ты – просто механизм».
Профессор не знал, откуда пришло это чувство. Но оно не уходило. Ни днём, ни ночью. Даже за завтраком, среди семьи, которая давно стала чужой, он ощущал этот взгляд – неуловимый, но цепкий, как давление воздуха перед грозой.
Сергей допил кофе и поставил чашку на блюдце. Посмотрел на Александра – тот снова смотрел в телефон. Перевёл взгляд на Викторию – она ссутулилась, упёршись локтем в стол, и что-то чертила на салфетке. Окинул взглядом Ольгу – она, будто почувствовав его внимание, подняла глаза, посмотрела на него – и сразу отвела.
Супруг отвёл взгляд последним.
Дорога до университета заняла ровно столько времени, сколько Сергей Андреевич ожидал. Профессор никогда не опаздывал – не потому, что боялся нарушить график, а потому, что порядок во времени для него был таким же фундаментом, как дыхание. Он сам вёл машину: чёрный седан с матовым блеском, без излишеств, но с точным характером. Пальцы на руле лежали легко, взгляд был спокоен, движения точны. Припарковавшись на своём месте, Воронин вышел из салона с лёгким наклоном головы, поправил лацкан пальто – автоматическим, отточенным жестом. Лёгкий морозный воздух коснулся щёк, но профессор даже не замедлил шаг.
Главный корпус университета, с его усталым величием, колоннами и облупленной штукатуркой, встретил его сдержанной строгостью. Мимоходом он отметил подправленные вывески, новые светильники в вестибюле, которые кто-то, наконец, согласовал и установил. Сдержанное одобрение отразилось на лице, но ни один мускул не дрогнул – он давно научился хранить внутренние оценки при себе.
Коридоры, знакомые до последнего пятна на кафельном полу, начинали заполняться голосами. Здесь он был фигурой – не просто преподавателем, а человеком, чьё имя говорили с понижением голоса. Студенты, завидев его, инстинктивно выпрямлялись, кто-то быстро отворачивался, кто-то кивал с натянутой почтительностью. Преподаватели здоровались сдержанно, чуть напряжённо, особенно младшие – у них в голосе чувствовалась смесь уважения и страха, ведь каждый знал: профессор видит больше, чем говорит, и запоминает надолго.
На третьем этаже, в конце коридора, располагался его кабинет – просторное помещение с высокими потолками, дубовой мебелью и двумя стеллажами, уставленными монографиями и сборниками конференций. Здесь царила не просто чистота, а безупречность. Всё лежало на своих местах: бумаги, книги, канцелярия, даже ручка на подставке стояла под определённым углом. Пространство дышало контролем, силой и неприкосновенностью.
Сергей Андреевич снял пальто, повесил его на крючок, прошёл к столу и сел, не тратя ни секунды на лишние движения. Кресло привычно скрипнуло, принимая его вес. Рядом – настольная лампа с тяжёлым абажуром, чашка с подогревом, закрытый ноутбук. Всё было готово к рабочему дню. Профессор протянул руку к стопке документов, мельком пробежал глазами содержание, переворачивая листы чётким, быстрым жестом, не вчитываясь – достаточно было увидеть шапки, подписи, формулировки. Он знал, что искать, и знал, как отличить значимое от фонового.
На секунду взгляд застыл на стеклянной поверхности стола, отражавшей свет лампы. Он вдруг подумал о том, от скольких вещей отказался, чтобы этот образ стал таким нерушимым. От дружбы, которая требовала открытости, от любви, которая предполагала слабость, от доверия, которое рисковало выдать его настоящего. Авторитетного, собранного, невозмутимого. Влиятельного. Того, чьё мнение не обсуждают, а принимают.
Он не добивался признания – он его создавал. Методично, шаг за шагом, как скульптор работает с камнем, отсекал всё лишнее, пока не осталась форма. И теперь эта форма была прочной настолько, что могла выдержать любую попытку давления.
Телефон завибрировал мягко, без звука – настроен на безукоризненную деликатность. Воронин потянулся к нему, разблокировал, прочёл сообщение. Всего одна строка – короткая, но лишённая двусмысленности: «Жду тебя, как договаривались. Буду в чёрном, без белья». Он не сразу ответил. Прежде позволил себе момент тишины, чуть откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
Диана Лосева. Её голос, интонации, то, как она смотрела – вызывающе, с вызовом, но всегда с ожиданием. Он не обольщался: понимал, что для неё он – не старший наставник и не интеллектуальный маяк, а фигура власти, человек, с которым связь придаёт ощущение риска и значимости. Но в этом была своя прелесть. И он не видел в этом ничего недостойного.
Губы дрогнули в едва заметной улыбке – не ироничной, не сдержанной, а именно удовлетворённой. Вечер обещал быть предсказуемым, и именно это доставляло удовольствие. Предсказуемость, в которой он управлял каждым движением.
Сергей Андреевич убрал телефон, вернулся к бумагам и продолжил подготовку к заседанию. До него оставалось чуть больше часа, и он намеревался использовать это время максимально эффективно.
Большие настенные часы, висящие в зале заседаний кафедры, отсчитывали секунды до начала. Тикали едва слышно, но неизбежно. Комната – просторная, с высокими потолками и большими окнами, сквозь которые пробивался зимний свет, слегка искажённый двойными рамами. На стенах – портреты ушедших профессоров, молчаливых наблюдателей всех прежних споров, интриг, формальных отчётов и формулировок. За овальным столом с массивной полированной столешницей уже собирались участники.
Антон Глебов, ссутулившийся, худощавый, нервно теребил уголок папки с распечатанным отчётом. Он избегал смотреть по сторонам, но всё же бросал косые взгляды в сторону Воронина, когда тот вошёл, чеканя шаги и не торопясь сесть, будто тем самым подчёркивая, что ничто в этом пространстве не начинается без его присутствия. Сергей Андреевич подошёл к своему месту в торце стола, снял перчатки, положил их рядом с планшетом, неторопливо раскрыл кожаную папку, на обложке которой золотыми буквами была выбита его фамилия.
– Доброе утро, коллеги, – произнёс он сдержанно, но ясно, будто каждое слово имело вес, точно рассчитанный. – Рад видеть всех вовремя. Предлагаю начать без прелюдий.
Он оглядел присутствующих. По правую руку от него устроился Игорь Павлович Ремезов – полный, лысеющий, с короткой бородкой, лицо приветливое, но в глазах – привычная маска наблюдателя, того, кто всё видит, но не торопится вмешиваться. Рядом с ним сидела Алёна Лукина – молодая, собранная, с прямой спиной и внимательным, чуть напряжённым взглядом. Она что-то помечала в блокноте, не поднимая головы. Ректор Михаил Борисович Сомов устроился чуть поодаль, не за столом, а у окна, положив ногу на ногу, скрестив руки и с интересом наблюдая за происходящим, как человек, которому важно всё, но говорить он станет только в случае крайней необходимости.
– Начну с краткого отчёта по результатам второй половины семестра, – продолжил профессор, развернув один из документов. – Уровень подготовки студентов на текущий момент можно считать приемлемым, хотя, как показывает практика, поверхностная работа некоторых ассистентов всё же даёт о себе знать. Особенно в блоке молекулярной биологии. Упражнения формальные, структура отчётов не выдерживает критики.
Он поднял глаза и задержал взгляд на Глебове. Тот вздрогнул едва заметно, сделал вид, что записывает что-то, но ручка дрожала в пальцах.
– Антон Валерьевич, не сочтите за личное – но ваша группа в этом семестре снова отстаёт по всем параметрам. Понимаю загруженность, понимаю кадровые трудности, но студенты не должны становиться заложниками вашей рассеянности. Или вы считаете, что я преувеличиваю?
Глебов прочистил горло, нервно улыбнулся, стараясь сохранить видимость спокойствия.
– Сергей Андреевич, я признаю, что часть материала действительно требует переработки. Я уже готовлю уточнённые планы. Просто не всё удалось синхронизировать – по независимым от меня причинам.
– Причины всегда есть, – сдержанно ответил Воронин. – Но когда они повторяются из года в год, они перестают быть обстоятельствами и становятся чертой. Подумайте об этом. Пока у нас есть ещё время.
На этом он тему закрыл. Больше он не смотрел на Глебова. Дисциплина была восстановлена, эффект достигнут. Слова были подобраны без злобы, но с точной долей унижения, необходимой для того, чтобы тот понял: терпение профессора не бесконечно.
Сергей Андреевич перевёл взгляд на Алёну.
– Лукина, ваши данные по экспресс-анализу образцов с четвёртого курса были представлены очень грамотно. Вы молодец. Думаю, ваша инициатива с внедрением визуальных таблиц может быть оформлена как методическое пособие. Подготовьте концепцию, я передам её в печатный центр через ректорат.
– Спасибо, Сергей Андреевич, – спокойно ответила она. – Я уже работаю над обобщением. Буду готова представить всё в начале следующей недели.
– Прекрасно, – кивнул он. – Вот это называется работа на результат.
Он откинулся в кресле, сцепив пальцы перед собой. В зале повисла короткая пауза – сдержанная, деловая, с привкусом уважения и некоторой настороженности.
– Игорь Павлович, – продолжил Воронин, чуть повернувшись к Ремезову. – Как Алла? Всё в порядке?
Вопрос прозвучал буднично, с оттенком вежливого участия, как того требовал кодекс приличий. Профессор не догадывался, что ночь в доме Ремезова закончилась трагедией.
Игорь Павлович кивнул, сложив руки на животе, и ответил тем же тоном:
– Спасибо, Сергей Андреевич. Да, всё нормально. Алла немного переутомилась в последние недели – работа, дом, публикации… Женщины, знаете, не умеют останавливаться. Я ей говорил, что надо снизить темп, но она упрямая. Сейчас вот собиралась взять пару дней для отдыха. Думаю, выспится – и всё встанет на свои места.
– Конечно, – кивнул Воронин, даже не вчитываясь в сказанное. – Иногда самое правильное – позволить себе сделать паузу. Передавайте ей мои пожелания.
– Обязательно, – последовал формальный ответ.
Диалог завершился так же гладко, как и начался. Ни в интонациях, ни в паузах не прозвучало тревоги. Профессор не уловил ни одного сигнала. Для него это был просто пункт в списке – вежливое напоминание о том, что в университете не всё измеряется публикациями.
Он вернулся к повестке. Несколько уточнений по лабораториям, два вопроса об оборудовании, один – о распределении часов. Все говорили мало, быстро, точно. Каждый старался не выйти за рамки и не сказать ничего, что могло бы быть расценено как слабость или претензия. Заседание продвигалось чётко, как часовой механизм.
Когда последний вопрос был исчерпан, Воронин взглянул на часы, затем на коллег.
– Благодарю всех. Работайте. Не допускайте разброда. Нам предстоит важный семестр, и репутация кафедры зависит от каждого из вас. Свободны.
Коллеги начали собирать бумаги, вставать, кто-то тихо переговаривался, но атмосфера оставалась напряжённой. Воронин остался сидеть. Он не спешил.
Он чувствовал, как в теле нарастает усталость. Не физическая – та, другую он мог снимать за ночь. Это была усталость от формы. От бесконечной необходимости быть тем, кем его привыкли видеть. От невозможности позволить себе не знать, не владеть, не контролировать. Образ, выточенный годами, не давал трещин. Но вес его давил всё ощутимее.
Профессор встал, отряхнул воображаемую пыль с рукава, взял папку и вышел. В коридоре уже раздавались шаги студентов. День продолжался.
Дверь зала заседаний закрылась за его спиной мягко, почти бесшумно. Коридор встретил Воронина обычной университетской суетой – до боли знакомой, но в этот момент чуть раздражающей своей непрерывностью. Студенты спешили по направлению к аудиториям, кто-то стоял у окна, кто-то прислонился к стене, оживлённо о чём-то переговариваясь. Среди этих движений, как в мозаике, Сергей Андреевич был неподвижной осью – прямая спина, уверенный шаг, лёгкая отстранённость, подчёркнутая сдержанным выражением лица.
– Сергей Андреевич! – позади послышался женский голос, ровный, без заискивания. Алёна Лукина шла быстро, но не торопливо, как человек, знающий себе цену и не склонный к суете.
Он остановился, повернулся с полуулыбкой, в которой не было ни теплоты, ни раздражения – просто вежливость.
– Да, Лукина?
– Я бы хотела уточнить пару организационных моментов по научному проекту, если, конечно, у вас найдётся минута, – сказала она, остановившись на расстоянии, достаточном для профессиональной дистанции. Взгляд карих глаз был спокойным, без кокетства, и это в определённой степени задело.
– Слушаю вас, – профессор слегка наклонил голову, продолжая держать руки за спиной.
– Мне необходимо чёткое понимание рамок исследования. Если это самостоятельная тема, я бы хотела курировать её полностью, с правом выхода на внешние лаборатории. Если это часть вашей линии – тогда я прошу письменное распределение задач. Мне важно понимать границы ответственности.
Слова были произнесены спокойно, без вызова. Но за их ясностью и тоном чувствовалась внутренняя сила – не юношеская горячность, а сдержанное убеждение в собственной правоте. Именно это вызвало в нём лёгкую волну раздражения. Он не привык, что к нему обращаются не с просьбами, а с условиями.
– Вы сомневаетесь в моих намерениях? – спросил он, слегка прищурившись.
– Я привыкла работать в системе, где всё чётко обозначено, – ответила она. – Если я беру ответственность, то беру её полностью. Мне не подходят ни полунамеки, ни гибкие формулировки. Особенно если речь идёт о научной публикации.
Он молчал. Секунду – две. Потом медленно кивнул.
– Хорошо. Я передам вам формализованную версию проекта. Сегодня до вечера. Подпишете – и начнём работу. Думаю, вам будет интересно.
– Спасибо, – ответила она сдержанно, без улыбки. Повернулась, как будто собираясь уйти, но профессор вдруг сделал шаг ближе, загородив путь.
– Лукина… – произнёс он тихо, почти ласково, и сделал ещё один шаг, сокращая расстояние. – Неужели вы правда думаете, что я не вижу, насколько вы… исключительны?
Алёна чуть нахмурилась, взгляд её остался неподвижным, но тело инстинктивно напряглось.
– Сергей Андреевич, – произнесла она медленно, с нажимом на каждое слово. – Прошу вас не переходить границы. Мы обсуждали работу.
– Иногда границы созданы для того, чтобы их пересекать, – сказал он, всё ещё не повышая голоса. Рядом никого не было – коридор был пуст в этом конце, лишь гул далёких голосов и шагов отражался от мраморных стен.
Воронин сделал последний шаг, подался вперёд, почти прижав её к стене. Его рука на мгновение коснулась её локтя, а затем – с неожиданной резкостью – скользнула вниз, явно переходя границу дозволенного. Он потянулся к её бёдрам, почти касаясь промежности. Она не дёрнулась, не отвела глаза, только взгляд стал резче, лицо – каменным. И в следующее мгновение его щёку обожгло.
Пощёчина была чёткой, звонкой, без истерики. Удар не был сильным, но эффект – безупречным. Он замер. И не от боли – от самого факта.
Алёна стояла перед ним с высоко поднятым подбородком, дышала ровно. Ни страха, ни стыда, ни смущения.
– Ещё одно движение – и вы пожалеете, – сказала она тихо, но жёстко. – У нас в университете до сих пор есть этика. Даже если некоторые забывают об этом.
Он почувствовал, как жар резко прилил к щекам, как в горле застряла неприятная горечь – не от боли, а от унижения, от внезапного осознания своей беспомощности перед человеком, которого он считал своей подчинённой. Воронин привык думать, что держит всех на безопасной дистанции, управляет каждым движением окружающих – и потому удар Алёны воспринимался не просто как физическое прикосновение, а как символическое разрушение выстроенного им порядка. Впервые за долгое время Сергей ощутил, как под ногами словно качнулась земля, как сработала тревожная сигнализация где-то глубоко внутри, предупреждая: то, что он считал незыблемым, начинает разрушаться.
Она развернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Профессор остался стоять у стены, с прищуренными глазами, будто пытаясь осознать, что именно сейчас произошло. Рука осталась в воздухе, затем медленно опустилась.
Шаги приближались с другой стороны. Воронин повернул голову и увидел Антона Глебова, проходящего мимо. Тот, не остановившись, бросил на него короткий, прищуренный взгляд, в котором сквозили зависть и злорадное удовлетворение. Ни слова, ни кивка – только взгляд, в котором было всё.
Сергей Андреевич ответил ему холодной пустотой. Смотрел ровно, с лёгкой полуулыбкой, которая была не столько издёвкой, сколько напоминанием: "Ты здесь никто". И всё же этот мимолётный обмен был неприятен. Почва под кафедрой становилась зыбкой, и он это чувствовал.
Но уступать – не его способ. Он расправил плечи, взял себя в руки, как берут вожжи, и двинулся дальше по коридору. Не спеша, не оборачиваясь, с тем самым выражением лица, которое подсказывало: ничего не произошло. Хотя внутри что-то дрогнуло. Не боль, не обида. Скорее – укол того самого центра, который он тщательно охранял от любых вторжений.
Весь оставшийся день прошёл для него словно сквозь лёгкую дымку раздражения и досады, через которую профессор упрямо пробивался привычной дисциплиной и внешней холодностью. И когда вечером он сел в машину, чтобы отправиться к Диане, то сделал это не только ради удовольствия, но и чтобы вытеснить воспоминание о неприятном унижении, произошедшем в коридоре университета.
Квартира, куда он приехал в конце дня, была маленькой, но оформленной со вкусом: серые стены, светлый паркет, минимум мебели, мягкий свет из торшера в углу. Это пространство было вырвано из общей ткани его жизни – здесь не существовало ни кафедры, ни семьи, ни обязанностей. Только один мотив, одна роль, которую он играл без напряжения – роль желанного, уверенного, притягательного.
Диана уже ждала. Она открыла дверь в коротком чёрном халате, босиком, с чуть влажными от душа волосами, распущенными по плечам. На миг он остановился в дверях, впуская в себя её аромат – лёгкий, но острый, как шлейф чего-то неразрешённо сладкого.