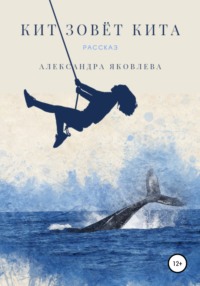Игра в оленей
Радостную весть привёз на стойбище Хасавако, но огонь и так подсказывал благополучный сговор. Старуха ловко орудует иглой, помогая Майме дошить приданое. В её маленьком вдовьем чуме жарко, пламя горит ровно и ярко. Наблюдая за ним, старуха научает внучку:
– Есть время пути и время отдыха, время холода и время тепла. Есть время мужское и есть время женское. Как бы ни был приятен путь, рано или поздно нужно остановиться, поставить чум, развести костёр. Стойбище – царство женщины. Замыкая круг, возводит она чум. Кружа, очищает землю под своими ногами. Обнимая, прячет детей от злых духов. Это и твой путь, Майма. В тундре главенствует мужчина. Он правит оленями, охотится на зверя, забоится о стаде. Но стоит мужчине откинуть полог и ступить под свод чума, он оказывается во владениях женщины. – Старуха простирает руку над огнём. – Вот твой главный друг и защитник.
Пламя целует сухую ладонь, но старуха не чувствует жара.
– Спрашивай совета, и огонь поможет. Я всю жизнь прожила, слушаясь свой. Он гораздо старше и мудрее многих других тундровых огней. Уходя к мужу, возьми угольки из моего очага. Ты, Майма, моей крови, тундровой. Как есть, вся в меня пошла. На мать свою непутёвую не гляди: чужая она, сына мне извела всего… А ты своя. Много счастья принесёшь мужу, много детей.
Она протягивает руку к внучке, треплет её по щеке. Щека мокрая.
– Ты что, внучка, плачешь?
– Нет, просто жарко очень.
Майма шмыгает носом. Старуха ёжится: её, наоборот, знобит.
– Не о чем тут плакать, – сурово говорит она. – Радоваться надо, что хорошего мужа тебе подыскали: молодой, работящий, оленный. Бабке-то своей поверь. Про меня сговорились, едва я успела положить кисы на поганую нарту. Совсем девчонкой ушла от отца, младше твоего…
Майма стыдливо отводит глаза. Её первая женская кровь случилась три года назад, и с тех пор всю одежду и обувь она кладёт на женские нарты, как заведено, – но взрослой себя не чувствует.
– Такие времена были, – шелестит старуха. – Невесты в тундре – большая редкость. И сейчас то же самое. Молодые все крылья поотращивали, разлетелись по городам. Ты, внучка, сокровище наше. Будешь хорошей женой – получишь и обхождение почётное.
– Хорошей – это какой? Не как мама?
Старуха тяжело вздыхает. Как объяснить ей?
– Твоя мама очень старается, это я вижу. Но от пришлых никакого проку. Всегда только одни беды. Спасибо, хоть двоих здоровых родила, а вот Ноляко… Надо было отдать его Нга, богу подземного мира. А я, дурная, выхаживала. И к чему привело? Огонь предупреждал, да я не слушала…
Пламя, будто откликаясь, взвивается, во все стороны летят искры.
– Вот опять, – волнуется старуха. – Выглянь: что делается?
Майма откладывает шитьё, подползает на коленках к пологу. Выглядывает наружу.
– Головастик прибежал, чего-то ревёт, – говорит она.
– Одна беда с ним…
– Беда! Беда! – вторит маленький Ноляко. Он захлёбывается собственным плачем, и у старухи всё обрывается внутри. Последний раз он плакал так отчаянно у неё на руках, сразу после рождения, когда казалось, что огромная его голова лопнет от напряжения.
– Беги, внучка! – молит старуха. – Беги, крепенькая!
Напуганная Майма выскакивает из чума. Слышатся встревоженные голоса Ксении и Хасавако, потом всё стихает – но лишь на время. Этого времени ей хватит.
Пошарив кривой рукой по мешкам, старуха хватает жменю, другую, бросает в огонь – пламя взвивается под самый свод. Едкий пряный запах разливается по чуму, жар волнами окатывает старуху, будто не лето снаружи, а лютый холод. Второй рукой она черпает ещё и бросает в воду, ставит на огонь. Огонь греет воду, вода – траву, трава подстёгивает пламя. Старуха сидит в кругу своего обиталища, замкнутая на самоё себя, и шепчет, шепчет неведомое. Когда Хасавако и невестка с искажёнными лицами вваливаются в чум и выпрастывают руки, полные страшного родительского горя, старуха уже готова.
Сойти без сознания. Его укладывают на шкуры, разбитыми ногами к огню. Мать волчицей скулит снаружи, причитает: что-то о городе, о больнице. Старуха выгнала и её, и пьяного Хасавако, запретила им входить. Осталась только Майма. Двигается она споро, руки её не дрожат, сердце бьётся ровно.
Вдвоём с внучкой они делают, что могут: останавливают кровь, вычищают раны, промывают их целебным отваром. Ощупав правую ногу, самую плохую, старуха дёргает стопу – Сойти лишь слабо стонет, не приходя в себя. Белая кость, торчащая из ноги, с хрустом встаёт на место. Кривой иглой и оленьей жилой они стягивают раны одну за другой. Потом сцепляют над Сойти руки и молятся северным богам для надёжности. Но Хадне, повидавшая на своём веку немало, встревожена. Боги своенравны, и в любую минуту могут отвернуться, особенно если отбираешь у них живую душу. Тундра дала – тундра взяла. Чтобы отбить Сойти, нужна хорошая жертва. Старуха надеется лишь, что её сын сделает всё, как должно.
***
До сих пор иногда случалось: он смотрел вдруг ласково, улыбался, ронял одно-два тёплых слова – и Ксения расцветала, впитывала эти крохи былой любви. Но всё чаще он приезжал со своих сходок расстроенный или разгневанный, с неизменной бутылкой – тогда она замирала на женском месте у входа, готовая ко всему. Порой обходилось лишь злой бранью. Бывало и хуже. Иной раз – совсем худо. Ксения родила троих, но потеряла больше, то и дело выкидывая из-за побоев. Однажды она разбила все его запасы, и Хасавако палкой погнал её в посёлок за добавкой. И смотрел при этом странно: без ненависти, без жалости. Будто она всего лишь олень безмозглый, а то и вовсе пустое место.
Когда становилось совсем невмоготу, Ксения выходила в тундру за хворостом, ложилась на землю, в мох или в снег, и долго лежала так, глядя в небо. По небу плыли облака. Её свекровь сказала бы: это кочуют в верхнем мире аргиши предков. Когда-нибудь старуха и сама сядет на небесные нарты, рядом со своим покойным мужем и многими погибшими детьми. Потом пройдёт ещё сколько-то времени – и к ним присоединится Хасавако. Только Ксении нет места в том аргише. Она думала: может, тогда просто врастёт в землю, распушится сочным ягелем, и олени коснутся её мягкими губами, и хоть тогда она станет кому-то нужной. Но время шло, мёрзлая земля не принимала её – и вот уже со стойбища окликали, и Ксения, подобрав хворост, тяжело шла обратно.
Раньше, когда Ксения была юна, а потому красива, домашние дела давались ей с трудом: шила она небрежно, готовила из рук вон плохо. Но Хасавако любил её без оглядки. «Няравэ сэр», – шептал, перебирая белые волосы, гладил шрамик на щеке. Ради неё оставил свою наречённую, хорошую девушку из многооленного рода, наперекор всей родне. А как он радовался первенцу!..
Отчего же так круто изменилась её жизнь?
Ксения сидит на земле посреди стойбища. Старуха выгнала её из чума, отобрав Сойти: нечего чужачке смотреть на таинство. А Хасавако… Ксения прикладывает ладонь к лицу. Фингал горит огнём, даже моргать больно. Она всего-то сказала, что сына надо в город, в больницу. Знала, что муж не любит оседлых, но попытаться стоило. И если бы только фингал – пережила, не в первый раз, но Хасавако совсем обезумел. Он зарезал уже шестерых белых оленей и как раз прикладывает нож к горлу седьмого. Приносит большую жертву.
– Мать знает, что делает, и пусть боги ей помогут, – вот, что сказал Хасавако, когда Ксения, сплёвывая кровь, отползала от него, подвывая от боли и бессильной ярости.
Теперь она смотрит, как кровь льётся по белой оленьей шерсти, собирается чёрными лужами на земле, медленно всасывается, уходит, уходит, как вода. Потом она станет ягелем, и другие олени коснутся его мягкими губами…
Ксения встаёт, шатаясь, снова подходит к Хасавако, перехватывает его руку с ножом.
– Меня режь, – шепчет. – А оленей оставь.
– Не дури, женщина.
– Хочешь жертвовать – меня давай! Только сына, сына нашего в город отвези. Ему помощь нужна, нормальные врачи.
– Отцепись, тебе говорят!
От сильного толчка Ксения падает, но тут же обнимает ноги мужа.
– Нет, не отцеплюсь! – Свист – и спину обжигает аркан. – Давай, бей меня. Что хочешь делай – а сына вези в город!
– Да провались ты со своим городом! – ревёт Хасавако. – Твои городские мне уже вот где… вот где… вот где! – Рука его поднимается и опускается на спину жены. – Всю тундру… измочалили! Изрыли! Ехать к ним?! Сына везти?! Просить?! Покориться?! Сама покорись! Покорись! Покорись…
Он вдруг замирает, аркан выскальзывает из руки, падает на землю. Следом за ним падает и Хасавако, прямиком в тёплые, вздрагивающие объятия жены.
– Няравэ сэр, – бормочет он, обливаясь пьяными слезами. – Как же так?.. Что же я?.. Прости меня, прости. Помнишь, как играли в детстве?.. Ты была белым олешком, а я…
– А ты был охотником. – Ксения приподнимает его, ведёт в чум, оскальзываясь на оленьей крови. – Я помню. Ты любил искать меня в траве, а я любила прятаться.
– Тот олень… К хальмерам его! Погубил мне сына… Нет. Я сам погубил. Пожадничал.
– Что ж. Тундра дала – тундра взяла.
– Не взяла! Ещё нет. – Хасавако входит в чум, тяжело опускается на супружеское ложе. Ксения стягивает с него обувь. – Няравэ сэр…
– Что?
– Ты отвезёшь?.. Отвезёшь его в посёлок?..
– Отвезу.
– Вот хорошо. Хорошо. По рации предупреди… Чтоб вертушку вызвали, или как там у них… Гляди! Головастики. Там, на дне. Ишь, ишь! Носятся… Прямо как ты. Убегай, убегай…
***
Когда старуха, утомившись, засыпает, Майма выходит из чума. Косы её растрепались, одежда в крови. Почти всё приданое испорчено. Да и будет ли теперь свадьба? Майма не думает об этом.
Стойбище тоже залито кровью, семеро мёртвых беляков лежат на земле. Остальные олени беспокоятся в загоне – кроме четверых, запряжённых в нарты. В нартах сидит мать. Опухшее лицо перекошено, подбитый глаз лиловеет, но взгляд устремлён к горизонту, над которым зависло незакатное летнее солнце. Ксения слегка раскачивается из стороны в сторону. Если и говорит с духами, то на таких глубинах, что даже прикосновение Маймы не сразу возвращает её в мир живых. Майма садится рядом, кладёт голову на колени к матери. Две крупные слезы выкатываются из её глаз.
– Мам, – говорит она, – у Сойти жар. Бабушка сделала всё, что могла, но надо больше.
Тёплая ладонь гладит её по волосам.
– Бедная моя девочка, – ласково шепчет мать. – Тебе бы в куклы играть и горя не знать… Что бабушка?
– Спит.
– Хорошо. Помоги мне.
Вместе они выносят спящего Сойти из бабушкиного чума, укладывают на нарты, укрывают, как следует. Сумка с провизией и документы уже собраны. Мать усаживается на место погонщика.
– Едем со мной?
Майма колеблется:
– Я тогда не вернусь, если уеду.
– И не надо. Придумаем что-нибудь.
– А ты, мам? Вернёшься?
Молчание. Только нервно вздрагивает плечо.
– А как же Ноляко? – спрашивает Майма.
Мать вдруг смаргивает, в ужасе озирается по сторонам. Майма – вслед за ней. В последний раз она видела Ноляко, когда тот, зарёванный, наконец, вывел их к Сойти. Потом началась суматоха, и Майма просто-напросто потеряла брата из виду. Мать хватает Майму за руки, встряхивает:
– Найди его, поняла? Изок поможет. Найди.
– Найду. Поезжай.
– Я вернусь.
Она трогает, и вот уже нарты резво летят к далёкому горизонту. Майма провожает их взглядом. Мать выбрала не самых сильных оленей, но и эти справятся.
Всё будет хорошо.
– Головастик! – зовёт Майма. – Головастик! Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!
Пса тоже не видно.
Майма берёт с мужских нарт хорей Сойти, открывает кораль. Отправляясь на поиски младшего, она уводит с собой и оленей. Их стало меньше, Майма без труда уследит за всеми. Кто-то ведь должен пасти стадо.
***
Маленький Ноляко долго идёт, не разбирая пути. Его слишком короткие ножки заплетаются, путаются в стланике, оскальзываются на кочках, и Ноляко то и дело падает на мягкие мшистые подушки. Полежит-полежит, поплачет горько – и снова в путь. Но мало-помалу силы оставляют Ноляко, и, когда ноги в очередной раз подводят его, он решает больше не вставать.
Совсем близко на тонких стебельках висит розоватая морошка. Ноляко протягивает руку, срывает сразу несколько, кладёт в рот. Потом ещё и ещё. Морошки здесь много, за один раз можно досыта наесться, а если не наешься, то проползти ещё немного вперёд – и тогда уж точно. Недозрелая морошка кислит, но Ноляко всё равно ест. Он принимает эту кислую морошку стойко, как наказание. Отныне он будет питаться только ею и жить здесь, в голой тундре, среди мха и пустоты. Без семьи, без чума, без оленей. Если потеряется в тундре навсегда, старший брат непременно поправится. Он встанет на обе свои крепкие ноги, и вырастет сильным, и проживёт долгую жизнь, и облетит со своим аргишем всю тундру, и станет многооленным.
Это Ноляко, а не Сойти должен был затоптать олень.
Это Ноляко, а не Сойти следовало отдать богам.
Это Ноляко, а не Сойти нарушил правило игры – и правило жизни.
Это он подлез под кораль, так что верёвка оказалась над его головой. Накликал беду, как и сказала бабушка. Проклят он – только он, не Сойти. Ноляко твёрдо решил: он пропадёт в тундре, как заслужил, и тогда боги оставят Сойти в покое.
Слёзы давно высохли. Ноляко принял свою участь и даже обрадовался ей: он всё исправит.
А летнее кучевое небо живёт своим укладом, не ведая о людских печалях. Облачные горы вздымаются, гонимые ветром. Из рассказов бабушки Ноляко знает: там, среди облаков, кочуют его предки, а когда умирают, снова возвращаются на землю. Даже Ноляко – заново рождённый предок.
В небесном мире всё то же самое: и бескрайняя тундра, и снег, и северные сияния. Среди звёзд крадётся пушной зверь, олень ищет ягель, а в голубом небе рыба плещется. Все они умерли на земле и теперь живут в облаках. Если в тундре изобилие, то наверху, конечно, голод. Но маленький Ноляко слышал от взрослых: олень вовсю гибнет, потому что есть нечего. Чужаки пришли на людскую землю, раскопали тундру, вывернули ей всё нутро нехорошее. Оттого и ягель сохнет, и олени мрут. А когда мрут олени, туго приходится человеку. Слышал Ноляко и то, что чужаки на своих вертушках могут стрелять оленя без разбору, сразу всё стадо положить – не для жизни, для забавы. Иногда диких, но чаще домашних, на выпасе. С высоты ведь не очень понятно. А гибель стада – гибель всей семье, и даже маленький Ноляко это понимает.
Но впервые Ноляко думает об оленьем море едва ли не с затаённой радостью: «Раз олени умирают здесь, значит, на небе их рождается всё больше и больше. Вот где жизнь, вот где счастье!» Он представляет себе многолюдные стойбища на облаках, нарядные чумы и нарты, полные всякого добра, бескрайние стада оленей и весёлых охотников, что всегда возвращаются с добычей. И если здесь от Ноляко одни беды, может быть, там он родится ловким и сильным охотником, и папа посмотрит на него с гордостью, а не с жалостью, и бабушка хоть раз его обнимет, хоть раз обнимет…
***
Ноляко мирно спит среди морошки, совершенно счастливый. Таким и находит его Изок. Он укладывается рядом, жмётся к мальчику тёплым боком, чтобы согреть. Вскоре он слышит Майму: «Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!» Сама она ещё далеко, а тонкий девичий голос уже летит над тундрой вольной птицей. Изок рад Майме, но маленький Ноляко крепко держится за шерсть, так что Изок лишь бьёт по земле хвостом-калачиком, приветствуя голос.
В ожидании молодой хозяйки Изок щурится на летнее солнце. Солнце медленно садится ему на нос, Изок клацает тихонько зубами, подкидывает в небо: ещё не время тебе умирать. Солнце будто спохватывается, поднимается чуть выше. Изок лижет маленького Ноляко в ухо, тот смеётся, не просыпаясь.
Где-то трещат оленьи копыта, авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи. Олени бодро идут по живой летней тундре. Начинается новый день.