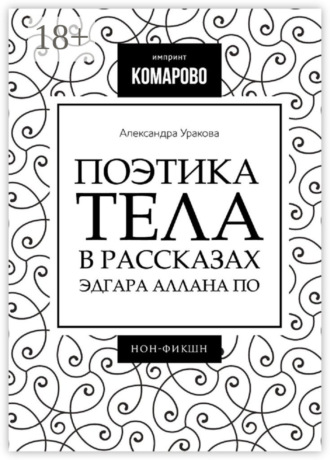
Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По
Популярная беллетристика и газетная риторика любопытна тем, что в ней, как в увеличительном стекле отражаются вкусы времени. Безусловно, в высокой литературе европейского и американского романтизма, как и в благопристойных сентиментальных рассказах, публикуемых в американских литературных журналах 1830-40-ых гг., насилие не заявляло о себе столь бесцеремонно и вульгарно. В то же время уместно говорить о завуалированных художественных формах, которые принимал садизм, «общая черта эстетики XIX в.»161 – эпохи «красивых смертей»162 и «романтической агонии»163. В рамках сентиментализма жестокость становится обратной стороной чувствительности: слезы, как правило, вызывает зрелище телесного страдания. Описание Беннеттом трупа Хелен Джуитт читается как пародия на эстетизацию мертвого тела романтиками, которые нередко прибегали к образам и риторике изящных искусств или превращали смерть в эротическое действо. Нездоровый интерес к «агонии» можно увидеть, вслед за Марио Працем, в отвращении к здоровым лицам, культе бледности, худобы, анемии, тревожной близости красоты и разложения; вслед за Сьюзен Зонтаг – в поэтизации первых симптомов туберкулеза164.
Выставление напоказ страдающего тела, нередко сопровождаемое грубым вторжением в чужое приватное пространство, становится привычным и для бульварной журналистики, и для литературы первой половины XIX в., независимо от того, какова его прагматика и конечная цель – повысить тираж, потрясти воображение, вызвать сочувствие и преподать урок, произвести эстетический эффект. От тела, которое становится объектом наблюдения, подчас требуют истории, связного нарратива о прошлом того или той, кому оно принадлежит. Синяки и подтеки на трупе Мэри Роджерс рассказывают об избиении, насилии, удушении. Смерть нью-йоркской «табачницы» не случайно стала источником целого ряда вымышленных историй – художественных текстов, из которых «Тайны Мари Роже» По самый известный, но далеко не единственный.
Приведем другой пример «тела» с «историей», из области изобразительных искусств. Турне по американским городам «Греческой рабыни» (The Greek Slave, 1844), нашумевшей статуи модного скульптора Хайрама Пауэрса, сопровождалось рассказом о героине. Цепи, сковывающие запястья, стыдливость позы, целомудренное выражение лица находили подтверждение в повествовании о несчастной судьбе невольницы, оправдывавшей наготу скульптуры. По мере своего перемещения из одного города в другой статуя Пауэрса «обрастала» различными текстами, которые добавляли новые подробности к рассказу и наставляли, каким образом следует созерцать шедевр165. В то время в моде были так называемые «идеальные» неоклассические скульптурные композиции, обычно на мифологические сюжеты, требовавшие от зрителя знания контекста. «Рабыня» Пауэрса сама стала источником собственного «сюжета», который произвел должный эффект на публику и в силу популярности романтического образа плененной Греции, и потому что сама тема рабства невольно отсылала к повседневной практике невольничьих торгов166.
В случае со статуей Пауэрса интересна кодовая переадресация: рабыня, объект оценивающих взглядов, выставляется в художественной галерее, где ее рассматривают и оценивают знатоки искусства; в конце концов скульптуру продают на аукционе. Двусмысленность продажи «Греческой рабыни» живо обыгрывалась в современных газетах, в том числе в «Нью-Йорк миррор», с которой в те годы сотрудничал По167. В самом деле, пространство аукциона, рынка и галереи становятся гомологичными постольку, поскольку их объединяет зрелище статуи, представляющее скованное цепями тело.
Историки культуры много писали о взаимной обратимости кодов искусства и повседневной жизни в романтическую эпоху. «Нагая мода» начала XIX столетия делала женщину похожей на ожившую статую; через «мотив движущейся статуи» начинает прочитываться балет, «казалось бы, противоположное скульптуре, динамическое искусство»168. Сценический текст романтического спектакля «организован по строгим законам композиции фигур на живописном полотне»169. В начале века модным светским развлечением были шарады (tableau vivant), популярные и в Соединенных Штатах: представляя застывшие фигуры мифологических персонажей, участники уподоблялись «идеальным» скульптурам, выставляемым в галереях. Тело оказывалось «вписанным» в интерьер дома как изящный артефакт.
Образ художественного галереи или музея, наравне с готической запертой комнатой, во многом определяет устройство внутреннего пространства в новеллах По. Местом действия нередко становится или картинная галерея замка, или частная коллекция шедевров и экзотических редкостей. Выставки и коллекции первой половины XIX в., как правило, представляли собой несистематизированные, хаотичные собрания предметов отдаленных эпох и культур. Персонажи По украшают свои жилища египетскими саркофагами. Мода на Египет буквально захлестнула Европу и Америку, начиная с 1800-ых гг. В 1823 г. египетские саркофаги впервые были привезены в Бостон; в 1826-м – выставлены в Нью-Йорке; первая частная коллекция египетских древностей была основана в 1832 г. полковником Мендесом Коуэном в Балтиморе – городе, в котором По провел большую часть своей жизни170. Саркофаги и восточные артефакты – курильницы, светильники, украшенные арабесками ковры – в интерьерах По соседствуют с венецианским стеклом и неоклассической скульптурой Кановы. Попадая в подобное пространство, тело начинает невольно мимикрировать под вещь или статую; становится зрелищем, которое захватывает героя-наблюдателя, проецирующего на его образ коды изобразительных искусств.
Акцент на зрении и зримом в XIX в. сопровождался актуализацией «живописной» и «скульптурной» метафорики телесного. В литературных текстах романтической эпохи мы на каждом шагу встречаем такие тропы, как, скажем, «подбородок ломбардской школы»171 или «красивое лицо в рамке кружев»172, подчеркивающие не только идеальность «портрета», но и его принадлежность визуальной сфере. И хотя обороты речи, отсылающие к изобразительным искусствам, зачастую были языковыми клише, в иных случаях можно наблюдать «сгущение» метафоры, ставящее под вопрос конвенциональную природу знака. Мы имеем в виду тексты, в которых, говоря словами Ю. М. Лотмана, обнаруживается «характерное сближение взаимонепереводимых сфер словесных и иконических, дискретных и недискретных знаков»173. Уже в рамках романтического канона границы тела осмысляются через его удвоение более или менее совершенными копиями – будь то ожившая статуя, сошедший с полотна «портрет» или заводной автомат. В то же время отношение к телу как к статуе или картине нередко вводит элемент подавления жизненного начала и индивидуальности чужого «я». «Тип красоты в XIX в. ориентирован на холодную статуарность идеальной маски, за которой становится невозможным воображать характер, личность, психологию»174.
Интерьер у По, сочетающий готическую семантику замкнутости, приватности, которая в любой момент может быть нарушена вторжением враждебных сил или нескромным взглядом, с музейными кодами коллекции, художественной экс-позиции, «навязывает» определенный модус видения. Тело в таком пространстве может стать одновременно объектом или инструментом манипуляции и предметом эстетического любования. «Тесная замкнутость» необходима для «эффекта обособленного события – это имеет силу рамы к картине», как писал По в «Философии творчества»175. Герой-наблюдатель смотрит на другого как на артефакт, который – в момент наблюдения, воспоминания, фантазирования – находится в его полном распоряжении.
В связи с прозой По уместно говорить о специфических техниках рассказывания. Они одновременно выражают и творческое усилие повествователя, переводящего зрелище в слово, и скрытые властные механизмы. В ходе наблюдения и описания тело превращается в «шедевр», совершенный объект искусства. Ниже мы рассмотрим три новеллы По, где представлены указанные техники. Нас будет интересовать не художественная эволюция его метода (от позднего рассказа «Овальный портрет» мы перейдем к раннему «Свиданию»), но соположение различных моделей, связанных с репрезентацией телесного.
Перевод-транспозиция
В романтической литературе был популярен сюжет о пагубном вмешательстве науки или искусства в природу, в том числе, в природу человеческого тела. В известном рассказе «Родимое пятно» Натаниэля Готорна ученый-алхимик Эйлмер производит научный эксперимент над собственной женой, стоящий ей жизни. Он удаляет с щеки Джорджианы родимое пятно – единственный «изъян» ее безупречной красоты. Амбиции ученого (герой Готорна, подобно Виктору Франкенштейну, был увлечен идеей создания человека) соединяются в Эйлмере с эстетическими претензиями художника. Он убежден, что, стерев маленькое пятно с белейшего мрамора («the whitest marble»176) кожи, получит шедевр. Герой не случайно сравнивается с Пигмалионом177, а его жена – не без иронии – со статуей Евы Хайрама Пауэрса178. «Овальный портрет» («The Oval Portrait», 1842) По очень часто рассматривается в паре с «Родимым пятном», и неслучайно. Герой новеллы, художник, жертвует жизнью жены, чтобы создать произведение искусства. По мере того, как он пишет ее портрет в уединенной комнате башни, молодая женщина заболевает и теряет жизненные силы; ее смерть совпадает с завершением картины. В отличие от готорновского персонажа, недолговечной и ненадежной органике художник По предпочитает «бессмертный матерьял»179.
Картина поражает не только удивительным сходством с оригиналом, но и почти сверхъестественным жизнеподобием, отсылая к другому модному романтическому сюжету – об оживающем, прóклятом портрете. В русской литературной традиции этот сюжет знаком прежде всего по «Портрету» Николая Гоголя. Эдгар По скорее всего читал гоголевский рассказ, правда, по нашим предположениям, только в 1847 г., в адаптированном переводе журнала «Блэквудз мэгэзин»180. Впрочем, сам мотив оживающего портрета, вошедший в реквизит готической литературы с легкой руки Чарльза Мэтьюрина, встречался в текстах того времени довольно часто.
Наконец, можно упомянуть еще одну немаловажную традицию. В первоначальной редакции рассказ По назывался «И в смерти – жизнь» («Life in Death», 1842): акцент был сделан на сохранении если не самой жизни, то ее подобия на полотне. Об этом говорит не только название, но и, например, эпиграф, опущенный впоследствии – надпись к итальянской картине, изображающей святого Бруно: «Egli è vivo e parlerebbe se non osservasse la regola del silenzio» («Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал закон тишины»)181. В журнале «Грэмз мэгэзин», который в те годы редактировал По, рассказ был опубликован в паре с анонимной новеллой «Судьба рудокопа» («The Miner’s Fate») – историей старухи, жених которой погиб когда-то в шахте. Его тело, которое спустя многие годы извлекают на свет, избежало разложения; оно по-прежнему прекрасно, как статуя Антиноя, и жизнеподобно («lifelike»)182. Жену художника и ее портрет в новелле По связывают глубокие, интимно-телесные отношения жизни и смерти: «все еще не отрываясь от холста, он (художник) затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: „Да это воистину сама Жизнь!“, внезапно повернулся к своей возлюбленной: – Она была мертва!» (546). В первой редакции художник добавляет: «Но разве это Смерть?»183. Тема продолжения и трансформации жизни, неопределенности ее границ, безусловно, отвечала веяниям эпохи.
Живопись в истории о портрете приравнивается к пытке; не случайно жена художника боится палитры, кисти и «прочих властных орудий, лишавших ее созерцания своего возлюбленного» (545). В то же время мотив жизни-и-в-смерти, равно как и оживающего портрета, придает самому портретному изображению сверхъестественную материальность, делает его слепком, отображением тела. Особый интерес в новелле представляет, на наш взгляд, то, как пишется портрет. Художник создает совершенную копию своей жены на полотне, что кажется странным, так как во время своей работы он почти не смотрит на оригинал. Свет, проникающий в башню, падает только «на бледный холст» (545). Сам живописец редко отводит взор от холста «даже для того, чтобы взглянуть на жену» (545). Наконец, он перестает допускать в башню посторонних – чужие взгляды, и его жена исключается из пространства зрения.
Вместо копирования, основанного на наблюдении и перенесении образа на полотно, художник занимается «переводом»184: «Оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен» (546). Природа (краски и оттенки тела) мистическим образом переводится в искусство (краски на холсте). Происходит в буквальном смысле подмена: живой плоти – изображением на полотне. Тело, отдающее свои краски (оттенки щек и губ) и свое тепло («дух вспыхнул, как пламя в светильнике») «бледному холсту» (545), является не столько моделью для портрета, сколько его «генератором». Происходит как бы перераспределение жизненной энергии; портрет становится не просто копией, но копией, заменившей собой оригинал. Это и рукотворный шедевр, и произведение без автора: художника можно назвать скорее медиумом, чем творцом. Любопытно предположение о том, что портрет в рассказе По напоминает фотографию. В первые годы своего распространения дагерротипы вызывали неоднозначную реакцию у публики, в том числе страх перед кажущейся самостоятельностью образа185. К началу 1840-ых гг. в Филадельфии, где тогда жил По, фотографирование стало модным развлечением. Сам он был хорошо осведомлен в фотографической технике: в своей статье «Дагерротип» («The Daguerreotype») он, например, свободно использует такие термины, как «фотогения» и «фотогеническое изображение»186.
Тело жены художника становится «генератором» не только портрета, но и ряда вторичных, опосредующих его текстов. Во-первых, история «перевода» включается в сборник, «посвященный… разбору и описанию» (543) картин из галереи замка – под определенным номером, как в музейном каталоге. Ее читает герой-рассказчик, который в свою очередь описывает впечатление, произведенное на него портретом – телом ради науки или эстетическства в живописном облике. как эпизод собственной истории, находящейся за пределами повествования. У новеллы – «рамочная» композиция, причем именно в «рамочной» части появляется фигура наблюдателя и сюжетная ситуация наблюдения187. Пораженный тяжким недугом, герой-рассказчик находит убежище в башне готического замка. В первой версии новеллы уточняется, что он был ранен бандитами (the banditi) и, чтобы снизить боль и убрать жар, принимает опиум, к курению которого пристрастился в Константинополе188. В окончательной редакции По убирает фрагмент об опиуме; внимание с телесного состояния героя и наркотической мотивации его видения переносится на саму сцену наблюдения. «…Я попросил Педро закрыть тяжелые ставни – уже наступил вечер – зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата» (543).
Герой не только изучает картины, но и читает к ним комментарии. Как и фланер в «Человеке толпы», он наблюдает и читает одновременно – с той лишь разницей, что посетитель лондонской кофейни просматривает случайные газетные объявления, а герой «Овального портрета» изучает соответствующие картинам тексты. Переставляя канделябр, чтобы «свет лучше попадал на книгу» (543), он случайно обнаруживает овальный портрет, до этого им не замечаемый. Картина производит на него неожиданный эффект, нарушив неспешный ритм созерцания полотен: «Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза» (544). Насколько можно понять из довольно путаных и пространных объяснений, последовавших за зрительным потрясением, герой-рассказчик едва не принял портрет «за живую женщину» (544). При этом он утверждает, что «особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы» его «отвергнуть подобное предположение – не позволили бы… поверить ему и на единый миг» (544).
Минутная рефлексия (веки героя закрыты) позволяет ему перестроить зрение: «подавить… фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда» (544). Теперь он может отстраненно взглянуть на портрет. «Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину… Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой виньеточной манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом» (544).
Герой-рассказчик теперь видит и описывает портрет как «произведение живописи», выполненное в определенной манере («так называемой виньеточной») и в определенном художественном стиле (стиль головок Салли). Его взгляд постепенно смещается от фигуры к фону, а затем от самого портрета к орнаменту рамы. Портрет описывается как вещь, артефакт; рисунок, украшающий его раму, представляет не меньший интерес для любителя живописи, чем изображение на полотне. Показательно, что в окончательной редакции рассказа По опускает описание внешнего облика изображенной на картине: «красота лица превосходила красоту сказочных гурий», «я больше не мог смотреть ни на грустную улыбку полуоткрытых губ, ни на слишком натуральный блеск безумных глаз»189. И, напротив, только теперь вводится упоминание о мавританском (Moresque) орнаменте рамы.
Своим описанием герой-рассказчик подчеркивает «искусственность искусства»190, развеивает иллюзию. Если художник восклицает: «Да это воистину сама Жизнь!», рассказчик говорит об «жизнеподобии выражения» как о «секрете произведенного эффекта» (544). Рассуждения о раме, стиле, живописной манере, эффекте заставляют подумать, что герой еще раз переместил канделябр, и свет, наконец, стал падать на книгу. Впрочем, в конце концов, он так и делает: переставляет канделябр и, «не видя более» того, что его «столь глубоко взволновало» (544), читает описание портрета, найдя номер, под которым он числился.
Если художник «переводит» тело на полотно, наблюдатель «переводит» увиденное на метаязык искусства. И тем, и другим используется техника «перевода», хотя «перевод» героя-рассказчика и носит вторичный, опосредующий языковой характер, лишенный мистического взаимодействия с телом-генератором. В этом его ограниченность (герой-наблюдатель не пишет, а лишь описывает портрет) и одновременно сила: портрет в «рамочной» части рассказа утрачивает свою самостоятельность и, наконец, становится произведением изобразительного искусства. Перевод – это идеальная модель перехода смысловой границы, в данном случае между жизнью и смертью, жизнью и искусством. Являясь техникой письма и живописи одновременно, он стирает различие между актом повествования и художественного творчества. Основная и «рамочная» часть новеллы повторяются друг в друге: наблюдатель сам того не подозревая, рассказывая о портрете, повторяет и усиливает жест художника.
Реставрация
Если в «Овальном портрете» объект наблюдения – портрет – обрамлен рамой и помещен в нишу готической спальни, в новелле «Свидание» («The Assignation», 1834) эстетическими маркерами служат вход в палаццо, арка шлюза и ниша здания. Беньямин отмечал, что улицы По в «Человеке толпы» похожи на интерьер191. Первый «акт» «Свидания», рассказа, написанного в традициях итальянской готики, разворачивается в Венеции, у знаменитого Ponte de Sospiri: городское пространство напоминает художественную галерею. Сцена организована как скульптурная композиция или живописное полотно. Подобная статуе (statue-like) [184] героиня стоит на широких мраморных ступенях у входа в палаццо, ее муж – «похожий на сатира» (77) – находится на много ступеней выше, под аркой шлюза, ее возлюбленный скрывается в нише здания на противоположной стороне венецианского канала. Другой возможный код прочтения этой сцены – tableau vivant: участники действа застывают словно для того, чтобы у героя-наблюдателя была возможность лучше их рассмотреть.
В критике нередко отмечается гротескная статуарность «Свидания»192. Скульптурные позы и внешний облик героев не соответствуют драматической ситуации сцены, открывающей новеллу, и мелодраматическому сюжету в целом. В венецианском канале тонет младенец, сын маркизы. Его спасает вышедший из своего укрытия загадочный незнакомец; возлюбленные договариваются о «встрече» и в конце концов в одно и то же время, хотя и по отдельности, совершают самоубийство.
Сцену спасения младенца герой-рассказчик наблюдает, проплывая по каналу на гондоле. Между временем рассказывания и происшедшим прошло немало времени; и потому в начале рассказа возникает мотив воспоминания. «И все же я помню – ах, забыть ли мне? – глубокую полночь, Мост Вздохов, прекрасную женщину и Гений Возвышенного, реявший над узким каналом» (75). Рассказчик говорит о Венеции как о «граде неясных видений» (75). Самого себя – участника давно минувших событий – он описывает так, как его могли видеть «столпившиеся взволнованные люди»: «я… должно быть предстал… зловещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле» (76). Путешествуя по каналу в призрачном городе (или по собственной памяти), он воскрешает к жизни тени, придавая им форму по ходу повествования.
Наблюдатель описывает тела, которые он видел, как произведения искусства, используя традиционные изобразительные приемы и риторические фигуры. Изображая тело маркизы – маленькие босые серебристые ноги, античная головка, гиацинтовые кудри, мраморный лик, мраморная грудь – он замещает его моделью совершенной статуи, отсылающей сразу к трем античным образцам. Окаменевшая от горя мать сравнивается с Ниобеей: покрывало обволакивает маркизу, «как массивный мрамор – Ниобею» (76). Героиню зовут Афродита, и она представляет собой воплощенный идеал античной красоты. Наконец, герой-рассказчик «разыгрывает» сцену оживления «статуи». Маркиза становится, хотя и не называется, Галатеей. «Смотрите! дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой!» (78). Герой подчеркивает, что оживает именно статуя, созданная его воображением.
Миф о Пигмалионе достиг пика своей популярности в предшествующем, восемнадцатом, столетии, «ибо этот век не только поставил проблему оживления мертвой материи, но его художники еще и мечтали о безупречном подражании, вознаграждение за которое стали бы любовные объятия с ожившим творением», как замечает Жан Старобинский. По мнению исследователя, «миф о Пигмалионе представляет еще на мифическом языке императив личностного самовыражения, который в скором будущем станет проявляться в полном отказе от мифических опосредований, от предзаданных фабул»193. В рассказе По мифологический сюжет «переводится» в риторический план. В то же время его инверсионная логика (женщина сравнивается со статуей, а затем «оживает» по воле наблюдателя) была достаточно распространенной, например, в поэзии.
Поэтическую параллель сцене «оживления» маркизы ди Ментони можно увидеть в стихотворении По «К Елене» (To Helen, 1831). Оконная ниша превращается в нишу для статуи: «Lo! In yon brilliant window-niche / How statue-like I see thee stand!» (Я вижу тебя стоящей, подобно статуе, в оконной нише]. В последней строфе восьмистишья Елена становится Психеей. Обретение античной Еленой души прочитывается через сюжет «Ундины» де ля Мотт Фуке – любимой повести По; не случайно во второй строфе он называет Елену наядой. Субъективность поэтического видения диктует свои правила: How statue-like I see thee stand. Стихотворение По было посвящено миссис Джейн Стеннард, в которую он был влюблен в юности и которую «переименовал» в Елену. Акт переименования аналогичен творению: поэтическая воля превращает женщину в античную статую (Стеннард – в Елену) и наделяет эту статую душой.
Не случайно следующее и последнее описание маркизы в новелле – это описание ее портрета, на котором она изображена как ангельское, неземное видение: «Маленькая ножка, достойная феи, едва касалась земли; и, еле различимые в сиянии, что словно бы обволакивало и ограждало ее красоту, как некую святыню, парили прозрачные, нежные крылья» (85). Портрет герой созерцает в палаццо незнакомца, которое он посещает во «второй части» «Свидания». Портрет – это не только шедевр изобразительного искусства, но и один из предметов в уникальной коллекции возлюбленного маркизы: «Есть одна картина, которую вы не видели. – И, отдернув какой-то полог, он открыл написанный во весь рост портрет маркизы Афродиты… (85).»
Более того, в контексте рассказа портрет маркизы неявно сравнивается с «Мадонной della Pietà» Гвидо. Увидев «Мадонну» среди картин незнакомца, герой-рассказчик восторженно восклицает: «Как могли вы ее добыть? Несомненно, для живописи она то же, что Венера для скульптуры» (82). Маркиза – сначала представленная в рассказе, как статуя, потом как живописное изображение на полотне – включается в определенный сравнительный ряд: как Мадонна для живописи – как Венера для скульптуры – как (можно продолжить) Галатея для поэзии и т. д.

