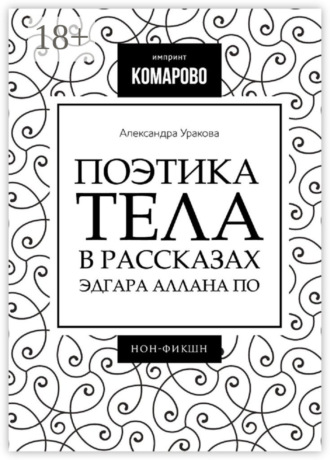
Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По
Арнгейм открывается для публики после смерти Эллисона, что позволяет герою-рассказчику описать его визит. Посетитель поместья, по наблюдению Т. Д. Венедиктовой, «похож на посетителя панорамы или диорамы – популярнейших во времена По зрелищных аттракционов»134. Как отмечает М. Б. Ямпольский, «к середине XIX в. диорамы стали одним из главных кодов восприятия природы с непременной фиксацией световых эффектов и трансформаций. Природа в глазах „зараженных“ транспарантным сознанием превратилась в зрелище с четко отмеренным временным ресурсом, вроде сеанса»135. В самом деле, в новелле По мы находим описание природы в буквальном смысле как зрелища и как сеанса: анонимный визитер приближается к поместью по воде сначала в лодке, потом в ладье; его путешествие представляет собой ряд сменяющих друг друга, в том числе световых эффектов, временная последовательность которых строго подчинена воле их создателя.
В «Поместье Арнгейм» встречаются обычные мотивы транспарентной живописи – облака и закат. Мы читаем, например, что дверь из отполированного золота отражает лучи «к тому времени стремительно заходящего солнца, от чего весь окрестный лес как будто захвачен огненными языками» (567) (курсив мой – А.У.). Закат, таким образом, становится тщательно продуманным моментом «сеанса»: он наступает в строго определенное время, не раньше и не позже, чтобы своим эффектным отражением поразить зрителя. Облака, как и положено облакам в панорамах и диорамах, отличаются подчеркнутой декоративностью и одновременно выступают в роли прозрачного покрова: «…Пока взор скользил кверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины, растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес» (566). «Панаромический поток» – это и греза, и заготовленный эффект («трудно было не вообразить»). Красота удваивается наложением двух изображений: посетитель видит и «многоцветный склон», и поток драгоценных камней одновременно.
Беньямин сравнивал изображение толпы в «Человеке толпы» с машинерией луна-парка: «В описании По предвосхищено то, что стал делать позднее своими аттракционами луна-парк, превращающий маленького человека в клоуна-эксцентрика»136. Т. Д. Венедиктова остроумно назвала Арнгейм Эллисон-лэндом: «Во всяком случае, подыскивая площадку для будущего парка, Эллисон останавливает выбор не на отдаленных „тихоокеанских островах“, а на местности „невдалеке от многолюдного города“»137. Взамен пасторального уединения – прагматика потенциального коммерческого предприятия. Безымянный посетитель Арнгейма попадает в полную зависимость от чужого зрения. «Правильное» восприятие пейзажа заранее навязано ему художественным видением мистера Эллисона и повествователя; в конце концов он полностью теряет ориентацию в лабиринтном пространстве Арнгейма. Эффект «аттракциона» возникает за счет введения темпоральности в описание: следующие друг за другом картины природы поставлены в зависимость от процесса их восприятия, причем восприятия не спонтанного, но строго регламентированного заранее.
Эксперименты По с новыми визуальными техниками, в которых на первый план выходит временной фактор и производство эффектов, были удивительно созвучны его пониманию художественного восприятия. Чтение как нерефлексивный, строго ограниченный временными рамками опыт, цель которого – испытать на себе задуманный автором эффект, мыслилось Эдгаром По как подобие сеанса. При этом авторский замысел должен «работать» безотказно, уподобляясь механизму или машине. Не случайно «Поместье Арнгейм» традиционно рассматривается как эстетический манифест По, разработавшего собственную теорию или «философию» творчества.
Фантасмагорическое зрелище в финале «Поместья Арнгейм» («полуготическое, полумавританское нагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сильфид, фей, джинов и гномов» (568)) заставляет вспомнить другую панораму – ту, которая открывается перед Огастесом Бедлоу, персонажем «Повести Скалистых гор» («The Tale of the Ragged Mountains», 1844).
Герой новеллы По путешествует осенью в районе Скалистых гор близ виргинского города Шарлотсвилля. Окружающая природа поражает его своей угрюмостью и запустением, горы покрывает густой туман. В описании природного ландшафта неслучайно отсутствуют пасторальные мотивы: прогулка предвещает скорую смерть героя, которую он переживает дважды, сначала в грезе, потом на самом деле. Гористая местность, протяженность равнин, запустение отличают пейзаж в «Повести Скалистых гор» от обычных пасторальных зарисовок По.
Неожиданно туман рассеивается, и герой к своему величайшему удивлению обнаруживает за ним индийский город Бенарес. «С того места, высоко над городом, где я стоял, был виден каждый его уголок и каждый закоулок, словно вычерченные на карте… Куда ни глянешь – мешанина балконов, веранд, минаретов, часовен и навесных башенок, покрытых причудливой резьбой» (702). Экзотический город изображается как огромное живописное полотно. Панорамный вид сочетается с отдельными, выхваченными глазом фрагментами и деталями, которые было бы невозможно ни обозреть все сразу, ни разглядеть с занимаемого Бедлоу наблюдательного пункта. Это флаги и паланкины, носилки со знатными дамами под покрывалом, слоны в пышном убранстве, причудливо изваянные идолы, барабаны, флажки, гонги, тысячи людей в желтых и черных тюрбанах, разукрашенные лентами быки, мириады священных обезьян, крытая тростником хижина, девушка с кувшином на голове…
Бедлоу спускается вниз и очень быстро вовлекается в панорамное «зрелище» на правах участника происходящих в городе событий. Его подхватывает людской поток, из которого он выходит уже английским офицером Олдебом. Олдеб сражается с восставшими индийцами и погибает, сраженный отравленной стрелой. Бедлоу описывает его / свой труп со стрелой в виске и с сильно вздувшейся обезображенной головой, в то же время замечая: «Всего этого я не видел – я это чувствовал» (705). Наблюдение сменяется вовлеченностью, в ходе которой герой не только теряет способность к рефлексии, но и полностью утрачивает собственное «я».
В новелле дана двойная мотивация экзотической грезы героя. Бедлоу, которого беспокоят тяжелые приступы невралгии, регулярно принимает морфий. В Скалистые горы он отправляется, приняв большую дозу за утренним кофе. В первой половине XIX в. опиаты были частью повседневной медицинской практики138. Но тогда же наркотические галлюцинации стали предметом описания и осмысления, начиная с «Исповеди курильщика опиума» де Квинси («Confessions of an English Opium-Eater», 1822), причем нередко они ассоциировались с экзотическим Востоком, откуда, в основном из Турции, но также из Индии и из Китая, поставлялся наркотик. Вместе с тем, как следует из развязки все увиденное и пережитое героем оказывается синхронно сделанной записью его врача-месмериста доктора Темплтона. В то время, как Бедлоу путешествует в горах, Темплтон подробно описывает события, которые произошли с его погибшим в Бенаресе другом Олдебом. Врача и пациента связывает сильный месмерический rapport, что делает возможным подобный поворот сюжета. На галлюцинацию Бедлоу накладывается текст; последовательность его грезы определяется последовательностью письма. Визионерский опыт, post factum опосредованный его изложением, объясняется эффектом подобия гипнотического «сеанса» на расстоянии.
Если посетитель поместья Арнгейм – в сущности, любой, everyman – лишен голоса и имени, то рассказ Бедлоу, как выясняется, это всего лишь пересказ записанной Темплтоном истории о погибшем в бою с индийцами английском офицере Олдебе, тогда как его имя – анаграмма имени последнего: Бедло (у) – Олдеб. Отчуждение героя от наррации, пусть даже ретроспективное, симптоматично. Безвольный зритель, в отличие от наблюдателя, становится частью оптического или галлюцинаторного «механизма», лишаясь права на самостоятельное выражение своего опыта.
В «Повести Скалистых гор» слово, сперва рукописное – Темплтона, а потом и печатное (типографская опечатка в некрологе139), торжествует над телесным опытом наблюдателя-визионера. Зрительные образы неотделимы от опосредующего их текста, который накладывается на них как палимпсест. На наш взгляд, здесь необходимо учитывать один немаловажный культурный факт. В альманахах того времени, где печатался По, часто заказывались рассказы или стихотворения как «иллюстрации» к гравюрам (т.н. plate article), а не наоброт, поскольку последние стоили дороже и ценились выше. Это диктовало определенный характер отношений между вербальным и визуальным материалом. Текст, предлагаемый читателю, был опосредован живописным изображением, которое он иллюстрировал: гравюра выступала в роли «экрана» между описанием и референтом. В том же 1843 году, когда была написана «Повесть Скалистых гор», По сам опубликовал такую «заказную» иллюстрацию – пастораль «Утро на Виссакихоне» (более известное под названием «Лось») в альманахе «Опал» («Morning on the Wissahickon» («The Elk»)). Нетрудно заметить, что в «Повести Скалистых гор» По переворачивает эту модель с ног на голову: письмо лишается своего прикладного характера, не комментируя, но формируя «зрелище», в буквальном смысле диктуя последовательность грезы. Не «картинка» подчиняет себе слово, но слово – «картинку». «Повесть Скалистых гор», таким образом, становится антипасторальным рассказом еще и потому, что бросает вызов модному жанру. Вынужденный писать литературные «иллюстрации» из-за денег140, По мечтал упразднить эту практику в задуманном им журнале «Стайлос» (Stylus)141 – проект, которому не суждено было осуществиться. Не удивительно, что на сделанном самим автором эскизе обложки «Стайлоса» изображена рука, чертящая греческое слово «Aletheia» (истина) на листе бумаги.
Анаморфоз: логика искажений
Галлюцинация, положенная в основу сюжета «Повести Скалистых гор» – нередкий мотив новелл По, действие которых происходит в «домашней» обстановке, предпочитаемой им всем прочим. В рассказе «Лигейя» («Ligeia», 1838) повествователь описывает оптический механизм, встроенный им в интерьер собственной спальни. Стены комнаты покрывает золотая парча с изображенными на ней арабесками. Арабески, «благодаря некоему устройству, ныне распространенному, а восходящему к глубокой древности», могут менять вид. «Вначале они казались вошедшему просто уродливыми; но по мере приближения к ним, это впечатление пропадало и, пока посетитель шаг за шагом продвигался по комнате, он чувствовал себя окруженным бесконечною вереницею жутких фигур, порожденных норманнским суеверием или возникающих в греховных сновидениях монаха» (202).
Данный фрагмент Юргис Балтрушайтис приводит в качестве примера описания анаморфоза в литературном тексте начала XIX в.: «Точка, из которой фигуры обретают правильную форму, закрепляется у входа в комнату, как в доме Бернарда Лами и в галереях Минимов в Париже и Риме, черты расплываются по мере удаления – целый анаморфический механизм точно воссоздан в описании прóклятого жилища. Античный характер интерьера соотносится с популярными анаморфическими сюжетами начала XIX в. – Мидасом, Геркулесом, купидонами и сатирами, однако суеверия и греховные сновидения – принадлежность дьяблерий и искушений пробуждающихся Средних веков»142.
«Анаморфический» фрагмент «Лигейи» с его сложной оптикой не случайно стал «аллегорией чтения» новелл По в американском литературоведении 1970-80-х гг. Авторитетный в то время исследователь Гари Ричард Томпсон рассматривает тексты По с точки зрения анаморфического искажения (хотя само слово «анаморфоз» не употребляет ни разу). Например, портрет героини «Лигейи» в определенной перспективе может быть увиден, по мнению критика, как изображение оскаленного черепа: на это указывают выпуклый выше висков лоб, широко раскрытые и почти лишенные зрачков черные глаза, пугающая яркость зубов143. Герой-рассказчик другого рассказа, «Падения дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher», 1839), смотрит на свое отражение в озере, которое подменяется отражением фасада с его «пустыми, похожими на глазницы» окнами и опять же напоминает череп144 – традиционный «сюжет» классических анаморфозов.
Такое чтение, достаточно произвольное и не находящее должного подтверждения в самих текстах145, любопытным образом следует сюжетной логике знаменитого рассказа По «Золотой жук» («The Gold-Bug», 1843). Герой рассказа, Уильям Легран, делает рисунок золотого жука на случайно подобранном им пергаменте, чтобы продемонстрировать свою удивительную находку герою-рассказчику. Вместо жука последний видит изображение черепа:
Что же, – сказал я, наглядевшись на него вдосталь, – это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп! (607)
Легран пытается возразить, что между жуком и черепом есть только отдаленное подобие, причем сугубо формальное: овальная форма – два черных пятнышка сверху, напоминающие глазницы – нижнее удлиненное пятнышко, которое можно принять за оскал. Но рассказчик настаивает на абсолютном сходстве: «жук как две капли воды походил на череп» (608). Как выясняется, правда, это не анаморфическая иллюзия, подменяющая одно изображение другим, но случайное наложение двух рисунков друг на друга: рисунок Леграна был набросан на пергаменте, где в самом деле был изображен череп, проступивший под действием тепла (рассказчик поднес рисунок к камину). Именно этот счастливый случай помог Леграну обнаружить местонахождение сокровища, зарытого легендарным пиратом Киддом. Жук – благодаря проступающей сквозь его рисунок эмблеме смерти / клада – сам становится эмблематичным: «жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи…» (606). Находка золотого жука оказывается первым шагом к обнаружению настоящего золота.
Модель наложения или наслаивания живописных изображений друг на друга во многом определяет специфику романтической репрезентации146. В «Золотом жуке» По эмпирическая случайность – находка и необычная форма жука – обретает смысл только благодаря опосредующему его образу-шифру. В дальнейшем, чтобы определить точное место, где зарыто сокровище, негр Леграна Юпитер должен пропустить привязанного к нитке жука сквозь глаз уже настоящего черепа, оставленного Киддом.
Насекомое принимает за чудовище с изображением черепа на груди, «словно тщательно выписанным художником» (873), и герой рассказа По «Сфинкс» (The Sphinx, 1846). Он переезжает к другу за город, спасаясь от эпидемии холеры, и бóльшую часть времени проводит в библиотеке, сидя в кресле у окна и читая книги апокалипсического содержания. Однажды, к своему ужасу, он видит ползущее по склону холма отвратительного вида чудовище. Героя, близкого к умопомешательству, спасает друг, предлагая пересесть с кресла на диван и поменять угол зрения. Чудовище оказывается ползущим по паутине вдоль оконной рамы насекомым, Сфинксом Мертвая Голова, описание которого можно найти в курсе элементарной истории: пятно на его щитке действительно напоминает эмблему смерти.
В этой новелле-притче опосредующая увиденное цепочка образов (холера – книги об апокалипсисе – череп) приводит не к открытию тайнописи и шифра, но, напротив, к расстройству воображения и чувств. Есть большое искушение увидеть в сюжетном строении рассказа анаморфический механизм: насекомое становится чудовищем только под определенным углом зрения. Виной оптической иллюзии, правда, становится не только неверный ракурс – гротескно обманчивый, порождающий химеры – но и слишком близкое расстояние между зрачком и объектом. «Длина его [насекомого] – не более одной шестнадцатой дюйма, и такое же расстояние – одна шестнадцатая дюйма – отделяет его от моего зрачка» (874). «Близкое» в новеллах По – это, как правило, пространство визуального искажения. В рассказе «Очки» («The Spectacles», 1844) именно близорукость приводит к оптическому обману и комическому конфузу: близорукий герой влюбляется в собственную пра-прабабушку, разглядывая ее через монокль из театрального партера. Совершенный ангельский глаз, по мнению Эллисона, не замечает ландшафтные дефекты, различимые только «на близком расстоянии» (560). Как говорил Огюст Дюпен о Видоке: «Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу» (397). В «Похищенном письме» сыщик утверждает, что рекламные сообщения, написанные слишком крупными буквами, остаются незамеченными. В основе идеологии детективных повествований По лежит модель видимого как неочевидного, тайны, лежащей на поверхности и доступной только проницательному взгляду.
Возвращаясь к анаморфическому фрагменту «Лигейи», заметим, что и здесь арабески превращаются в монструозные изображения по мере приближения и, напротив, теряют форму при удалении. Одновременно «Лигейя», с ее «необарочной» стилистикой, предлагает, если следовать Балтрушайтису, новую интерпретацию анаморфоза, напрямую связанную с изменившимся пониманием перспективы. С рубежа XVIII – XIX вв. «перспектива перестает быть способом познания реальности и становится инструментом, производящим галлюцинации»147, как замечает исследователь. Новелла По интересна как пример превращения анаморфоза из философского и математического конструкта в продукт расстроенного воображения наблюдателя. Именно так ее читает Балтрушайтис, замечая, что в «Лигейе» как раз нет характерной для анаморфоза зашифрованной картинки: «движение расплывчатых и текучих форм – вот что его привлекало»148. Одно изображение здесь не подменяется другим, но разрушается, превращается в хаотическую бессвязность. Принципу оптической иллюзии подчинено и действие рассказа. Сюжет «разворачивается в анаморфической обстановке, на фоне анаморфоза – и это в то время, когда сама система достигает пика экстравагантности»149.
Дэвид Кеттерер, независимо от Балтрушайтиса, предположил, что в основе зрительных образов По лежит «арабескная» обманчивость и динамическая подвижность изменяющихся форм. Войти в любую из комнат По, как точно замечает критик, «все равно что потерять равновесие»150. Герои видят мир «смежая веки»151, предаваясь галлюцинации и иллюзиям, чтобы забыть о реальности. По мнению Кеттерера в основе визуальной образности По лежит принцип «эстетического эскапизма»152. С этим последним мнением мы не можем согласиться, полагая, что совсем напротив, наблюдение в рассказах По выстраивается по модели противостояния обманчивой, ускользающей видимости – как отчаянная попытка удержать над ней контроль. Проблема «правильного» ракурса, точно выбранной перспективы и расстояния интриговали По не случайно. Мотив оптических искажений подчеркивает шаткость позиции наблюдающего субъекта, опасность потери устойчивого положения в пространстве. Чтобы видеть и тем более наблюдать, герою По необходима дистанция, организующая поле восприятия. Как заметил Тони Тэннер, «основная тема в американской литературе – это как человек должен видеть мир, в противоположность тому, как он его на самом деле видит»153. Для наблюдателя По выбор «правильной» точки зрения «на мир» подчас оказывается средством выживания; в противном случае он рискует сойти с ума или погибнуть – если только он не попадает в заранее придуманную и продуманную за него «диораму», как анонимный посетитель «Поместья Арнгейм».
Практика наложения образов друг на друга, опосредования панорамным зрелищем, проступающей эмблемой или анаморфическим смещением, эксперименты с перспективой, приближением и удалением – все это говорит о том, что сам перевод «зримого» в «зрелище», изображение154 мыслился По как проблема. Репрезентация тела в его текстах неотделима от опыта героя-наблюдателя, от особым образом организованного пространства видимого.
Сквозь замочную скважину
Спальня, библиотека, частная галерея – наиболее предпочтительное и привычное место действия новелл По. Его драмы, как правило, разыгрываются в тесноте готической комнаты, где наблюдатель оказывается наедине со своим (вожделенным, ненавистным, воображаемым…) «объектом». В домашней обстановке наблюдатель ощущает себя «безопаснее», чем в городе, где он сам может стать объектом чужих взглядов, или на природе в тех случаях, когда возвышенное исключает пасторальное: «Смотря с горной вершины, мы не можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы»155. Вместе с тем, как мы увидели, в замкнутом пространстве велика угроза искажения видимого: наблюдатель, прибегая к наркотикам, книгам или оптическим ловушкам, подвержен галлюцинациям.
В целом приватность понималась По в готическом духе, за исключением разве что идиллического рассказа «Домик Лэндора» («Landor’s Cottage», 1849) написанного как продолжение к «Поместью Арнгейм». Любая из его комнат, нередко расположенная в башне полуразрушенного аббатства или старинном итальянском палаццо, грозит обернуться пыточной камерой или склепом. В рассказах По можно наблюдать рудименты традиционной схемы готических и либертинских романов, наследия XVIII в.: затворница или затворник испытывает на себе злой нрав какого-нибудь владельца уединенного, неприступного и мрачного замка. У По в роли такого «злодея» выступает сам герой-рассказчик (почти все его новеллы написаны от первого лица), власть которого, однако, небезгранична уже потому, что он в любой момент может стать жертвой собственных фантазий или сверхъестественного события. За исключением рассказов с мотивом убийства, персонажи По обычно не совершают ничего предосудительного или, по крайней мере, об этом не говорится напрямую. Властные, а порой и садистские импульсы в его рассказах, как мы увидим в дальнейшем, чаще всего смещаются в область репрезентации.
Говоря о литературном и культурном пространстве, в котором работал По, важно обозначить жанровые границы риторики насилия, связанной с телесной образностью. Прежде всего, ее открыто эксплуатировали популярные романы эпохи, написанные как на готические, так и на современные городские сюжеты. Открывая наугад один из романов Джорджа Липпарда, известного романиста и приятеля По, мы находим многостраничное описание казни, воображаемое одним из персонажей. «Чу – слышишь шипящий звук? Его мускулистая грудь обнажена, и вот раскаленное железо касается теплой плоти, темнеющая кровь сочится из вен. Он извивается от боли – но не произносит звука… Его рука сломана, видишь выступающую кость?»156. Анатомия пытки доводится до истерии: герой Липпарда с нарастающим сладострастием представляет, как выжигает своей жертве оба глаза и вырезает сердце. Подобными сценами пестрели многие романы того времени, которые обычно печатались как приложения к журналам или выходили отдельными, дешевыми изданиями. Кровавые преступления, пытки и бесчинства, в том числе эротического характера, неизменно совершались за закрытой дверью, в замкнутом пространстве комнаты, которая подчас представляла собой изощренный механизм с потайными дверьми и нишами, раздвигающимися стенами и т. п.
Столь же открыто смаковали сцены убийства и насилия газеты, самой одиозной из которых был «Геральд» (Herald) Джеймса Гордона Беннетта. Жестокость шла рука об руку с эротизмом. Например, Беннетт описывает труп проститутки Хелен Джуитт, убийство которой стало нашумевшим и долго обсуждаемым в прессе событием:
Он [префект полиции] приоткрыл ужасный труп… Я стал рассматривать его очертания медленно, как рассматривают красоты мраморных статуй… «О Боже! – воскликнул я, – как он похож на статую! Я едва могу поверить, что это труп.»… Тело было столь же белым – столь же полным – столь же гладким, как чистейший парижский мрамор. Отличная фигура – изящные члены – прекрасное лицо – полные руки – красивая грудь – все – все превосходило совершенство Венеры Милосской157.
Сенсационные публикации, вызванные загадочной смертью нью-йоркской «табачницы» Мэри Роджерс (ее тело было выловлено из Гудзона) отличала другая риторика – осквернения и скандала. Репортеры подробно останавливались на следах причиненного насилия: «лоб и лицо были… превращены в бесформенную массу»; «глаза так заплыли на распухшем лице, что, казалось, были с силой выдавлены из глазных впадин»; «рот был растянут настолько, насколько позволяли связки, и придавал сходство с мертвецом, умершим от удушья или задушенным»158. Самое тревожащее в этой истории – то, что все перечисленные и многие другие «следы» указывали на воображаемое преступление; жестокое убийство, как и изнасилование, было «изобретено» газетами: в ходе следствия выяснилось, что девушка умерла от неудачного аборта159.
Связь между криминальной хроникой и придуманным По детективным жанром была настолько тесной, что в «Тайнах Мари Роже» («The Mystery of Marie Rogêt», 1842) – рассказе-расследовании «убийства» Мэри Роджерс – он пространно цитирует аутентичные газетные вырезки; в ранее написанной новелле «Убийства на улице Морг» («The Murders in the Rue Morgue», 1841) – занимается стилизацией. Натуралистические, беспощадно перечисляемые детали в «Убийствах» (содранные со скальпа клочки мяса, перерезанное горло, глубокие следы ногтей) генетически восходят к газетным публикациям. Сцена убийства двух дам Л’Эспане – старухи и ее дочери – орангутангом описывается как откровенно вуайеристская: матрос, хозяин сбежавшей обезьяны, наблюдает за зверствами своего питомца, заглядывая в комнату из окна. Судя по тому, что По относился к вторжению газет в частную жизнь с долей брезгливости и презрения160, он не только опосредовал, но и легитимировал откровенные описания, вводя настоящие или стилизованные газетные тексты в детективные рассказы.

