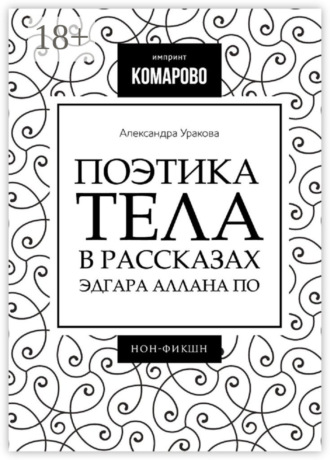
Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По
Предлагаемая вашему вниманию книга, учитывая новейшие достижения американского По-ведения, отличается от обозначенных подходов выбранным исследовательским фокусом. Нас будет интересовать не политика (body politics), а поэтика тела в рассказах По. Иными словами, как представлено тело в текстах По с помощью языковых, художественных средств – образов, метафор, типов письма, и как эти средства участвуют в создании общего эстетического эффекта, оказывают прямое воздействие на читателя. В центре внимания – характерные особенности, но также пределы репрезентации телесного, важные для понимания общих эстетических закономерностей прозы По. Тем самым мы стремимся не оспорить, но скорее дополнить имеющиеся на данный момент исследования телесной тематики и проблематики в творчестве По.
Несомненно, наш подход является не в меньшей степени исторически обусловленным, чем те, которые мы приводили выше. Он вписывается в рамки современной критической рефлексии о границах семиотики, переосмысливающей некоторые результаты постструктуралистской теории. С одной стороны, мы осознанно будем применять к рассказам По понятия и категории, возникшие сравнительно недавно: репрезентация, телесность, телесный опыт и др. Речь идет не столько о произвольном наложении на тексты прошлого языка описания другой, более поздней культуры, сколько о прагматике самого исследования, потребности в адекватном инструментарии для решения поставленных задач. С другой стороны, для нас важна реконструкция имманентного контекста – круга взглядов и представлений эпохи, предопределивших особенности репрезентации телесного в прозе По. С этой целью мы будем задействовать в том числе материал журналов, альманахов, газет, в которых публиковались его произведения. В самом деле, бодлеровский образ возвышающегося над миром гения, ставший в наши дни культурным штампом, заставляет забыть об активной вовлеченности писателя в современную ему литературную и окололитературную жизнь.
В первой главе «Тело в пространстве видимого» представлен анализ «оптики» По как составной части моделируемой им художественной реальности. Тело другого – «внешнее» тело, в бахтинском понимании этого слова105, – мы неизменно видим опосредованно, глазами героя-рассказчика. Его образ – результат специфических дескриптивных практик, благодаря которым оно не только «достигает письма», но и проходит (как мы можем догадаться по техникам его описания) ряд трансформаций. Эти трансформации далеко не «невинны». За ними скрывается волевое усилие рассказчика, утверждающего собственное видение и авторитетное слово, шире – культурные механизмы, переводящие насилие (подавление самовыражения, садизм и т.п.) в вербальный, дискурсивный план. Однако в самом процессе рассказывания, повествователь, замещающий тело объектом искусства (картиной, статуей, комбинацией артефактов, вещью), то и дело «осекается», «проговаривается», невольно позволяя объекту репрезентации заявить о себе на письме, преодолеть собственную объектность. Невозможность полностью, без остатка «перевести» тело в «читаемый», умопостигаемый текст в свою очередь создает эффект скрытого противодействия, напряжения, зазора между интенцией повествователя (или точнее самого повествования) и его «предметом».
Вместе с тем, именно такой режим наблюдения и повествования, за которым скрывается не только желание власти, но и страх утратить собственную идентичность, оказывается единственно возможным. Во второй главе «Телесный коллапс и обрыв повествования» речь пойдет о визуальной и вербальной травме, переживаемой рассказчиком в тот момент, когда его семиотические усилия резко и неожиданно дают сбой, тело заявляет о себе вопреки навязываемым ему смысловым моделям – ценой саморазрушения, распада, обретения нового, не поддающегося описанию, качества. Для нас важно зафиксировать переход от дистанции, которая создается в том числе при помощи опосредования речи «готовыми» дискурсивными моделями, к невыносимой, невозможной близости, производящей эффект «жуткого», не только оставляющей финал открытым, но и делающей дальнейшее рассказывание немыслимым.
Наконец, в третьей главе «Поэтика ощущений» мы обратимся к еще одной миметической модели, характерной для рассказов По. Внутреннее телесное переживание или ощущение заявляет о себе опять-таки при помощи готовых метафор и образов, проецируется в привычные знаковые системы, в иных случаях – замещается знаком. Но в самом этом (само) проецировании угадывается особая, чуждая нарративному порядку модель смыслообразования. Тело не только не поддается объективации, но и «заражает», «инфицирует» повествователя, видоизменяя само повествование и наделяя его особым, суггестивным качеством. Границы между внутренним и внешним, «моим» и «чужим», дискурсивным и соматическим стираются. Симпатические отношения между телами метафорически проецируются на отношения между читателем и рассказчиком, читателем и автором, в результате чего возникает образ «заразного» текста. Потеря идентичности, нарушение приватного пространства самого рассказчика в этих случаях происходит как бы незаметно, ненавязчиво и вместе с тем ощутимо о себе заявляет. Здесь можно говорить уже не о пределах и границах репрезентации, но о постоянном нарушении, пересечении границ: повествователь и воплощает свое/чужое состояние в текстовой форме, и сам оказывается им «захвачен» настолько, что может только с трудом или вообще не может от него дистанцироваться. Если в первых двух главах мы постараемся обозначить отличительные черты романтического телесного канона и нового понимания визуального, в третьей главе тексты По будут соотнесены с физиологическим и медицинским дискурсом XVIII столетия, продолжавшим оказывать существенное влияние на взгляды его современников.
Несколько слов следует сказать о «корпусе» произведений, к которому мы обратимся. Особенностью книги является тематическая и проблемная классификация рассказов, а не хронологическая. Нарушение хронологической последовательности в работе об отдельном авторе – вещь довольно уязвимая и требует пояснения. В 1950-е-80-е гг., когда складывалось такая дисциплина, как По-ведение, было едва ли не обязательным начинать любую монографию о По с обзора его поэзии и заканчивать анализом его философской поэмы «Эврики», написанной за год смерти. Таким образом, выстраивалась эволюционистская модель, предполагающая последовательное и поступательное развитие. От поэзии «раннего» По – к прозе «зрелого» и, наконец – к вершине и кульминации творческого пути106. В последние годы исследователи отходят от этой непреложной схемы, следуя ряду соображений. Переход По от поэзии к прозе далеко не столь безусловен, как принято думать, если учесть, например, тот факт, что По продолжал публиковать стихотворения до конца жизни. Он писал значительно меньше поэтических произведений (хотя самое известное из них – «Ворон» – было написано в 1845 г.), но продолжал позиционировать себя как поэт за счет перепечатки старых вещей. В глазах современников он оставался писателем и поэтом107. Наконец, сама идея творческой эволюции вызывает вполне законные возражения. Можно сказать, что в 1840-е гг., во многом под влиянием редакторов и друзей, По стал больше писать на американские темы и отошел от «германской» традиции, в следовании которой его не раз упрекали108. Тем не менее, говорить о существенных изменениях творческого метода, значимых для нашей темы, мы бы не стали. В рассказах По, как раз напротив, нередко повторяются (а не преодолеваются) похожие сюжетные схемы; его письму свойственна самоцитация, отсылки к собственным, более ранним текстам.
При жизни По его рассказы, как и стихотворения, циркулировали в периодике независимо от даты их написания: более ранние перемежались с более поздними. Издательская практика того времени то и дело нарушала хронологию. Любопытно, что и сам писатель, например, в сборнике «Гротески и арабески» компонует написанные в разные годы новеллы произвольно, в ряде случаев следуя формальному принципу соположения текстов. Например, По размещает друг за другом рассказы, казалось бы, совершенно далекие по смыслу и тону – гротеск «Человек, которого изрубили в куски» («The Man that Was Used Up») и готическую новеллу «Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»). Очевидно, По выбрал такую последовательность потому, что последние фразы обоих рассказов, выделенные в сборнике графически, совпадают полностью или частично с названием каждого, указывая тем самым на игровой, условный характер письма (в моде того времени, как известно, были анаграммы): «Brevet Brigadier General John A. B. C. Smith was the man – THE MAN THAT WAS USED UP»; «…and the deep and dank tarn at my feet closed sullenly and silently over the fragments of the «House of Usher»109.
Оговорив, что проблемный момент для нас важнее хронологического, следует также извиниться, по примеру Мари Бонапарт, за ряд вынужденных повторов и возвращений к одним и тем же текстам, что продиктовано, правда, не монотонностью и повторяемостью письма По, а, напротив, семантической емкостью и многоаспектностью некоторых его новелл. Наконец, в фокусе нашего внимания – рассказы По (преимущественно его готические и фантастические новеллы, хотя гротескам отведена отдельная главка). За рамками детального рассмотрения остаются стихотворные тексты, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» и «Эврика»; точно также мы не претендуем и на охват всех рассказов. Наша цель – нащупать определенную логику в репрезентации телесного, далеко не обязательную для каждого текста По, но все же достаточную, чтобы объяснить характерные «эффекты» его прозы. Остается только надеется, что этот вынужденный пробел нашей книги будет восполнен в новых исследованиях.
Глава 1. Тело в пространстве видимого
Lo! in yon brilliant window-niche
How statue-like I see thee stand!110
Edgar Allan Poe.Был ли По фланером?
Герой рассказа Эдгара По «Человек толпы» («Man of the Crowd,» 1840) сидит у окна в лондонской кофейне осенним вечером. Несколько месяцев он был болен и теперь находится в состоянии «острейшей восприимчивости», испытывая «пытливый, но спокойный интерес ко всему» (372). С сигарой в зубах он просматривает газетные объявления, наблюдает за разношерстной компанией собравшихся в зале и изредка глядит сквозь задымленные стекла наружу. Когда зажигаются фонари, он погружается в созерцание улицы, начиная «с пристальным вниманием разглядывать бесчисленное разнообразие фигур, одежд, осанок, походок, обликов и выражений лиц» (373). Свои суждения о проходящих он основывает на случайно подмеченных физиологических деталях: игроки опознаются по большому пальцу, отстоящему от ладони под прямым углом, денди – по длинным локонам, пьяницы – по толстым чувственным губам, карманники – по ширине обшлагов. По мере того, как темнеет, свет газовых фонарей становится слепящим и неровным; от зрелища стремительной жизни начинают болеть глаза. Герой все больше вовлекается в происходящее, его захватывает увиденное, ему начинает казаться, что бросив лишь один взгляд на прохожего, он может прочесть историю долгих лет.
На примере этого небольшого фрагмента можно изучать то, что в исследованиях современности (modernity) обозначается как кризис классической системы репрезентации или смена визуальной парадигмы на рубеже XVIII и XIX вв. Наблюдение становится приватным опытом, случайным, фрагментарным, зависимым от произвола конкретной ситуации или состояния. Больше нет единой, или унифицированной позиции наблюдающего субъекта, которая обеспечивала бы надежность и объективность видения111. Между глазом и зрелищем возникает множество «помех»; в процесс восприятия вмешивается болезнь, выздоровление, сигарный дым, газовое освещение улиц, усталость, эйфория, сутолока и шум кафе. В то же время наблюдатель вооружается правилами чтения реальности, будь то френология, физиогномика, медицинское описание симптома… Он изучает толпу с авторитетностью знатока, подмечая отдельные, «читаемые» детали.
Герой, подчеркнем, сидит с газетой на коленях и просматривает газетные объявления. Столь же беглому просмотру подвергаются первые потоки прохожих – деловые люди и клерки, внешний вид которых точная копия (exact facsimile) того, что считалось бон тоном двенадцать или одиннадцать месяцев назад. От скучной и устаревшей информации он переходит к более интересным социальным типажам, сенсационному «материалу» бульварной прессы и газетных приложений – карманникам, игрокам, профессиональным нищим, проституткам, пьяницам. Нищие-профессионалы угрожают беднякам более достойным, «которых одна лишь крайняя нужда погнала на вечерние улицы за подаянием»; скромные девушки «со слезами» отшатываются от наглецов; проститутка напоминает статую из паросского мрамора, набитую нечистотами. (375) Перед нами – характерные штампы модной в то время социально-обличительной публицистики и литературы. Пьяницы, «выписывающие ногами вензеля», «с дикими, омерзительно красными глазами» (375—76) – узнаваемые персонажи «рассказов трезвости» («temperance stories»), которые наводняли американские периодические издания 1830-40-ых гг112. Увиденное незаметно подменяется «готовым» газетным текстом, с риторикой которого Эдгар По, профессиональный журналист, был хорошо знаком.
Опора на газетный дискурс не мешает герою «Человека толпы» представить городскую жизнь как откровенную фантасмагорию. Топография Лондона, знакомого По лишь по детским воспоминаниям, сильно искажена, на что сетовали английские рецензенты. Автор рецензии в «Блэквудз мэгэзин» недоумевает, почему По не мог обзавестись обыкновенной картой и путеводителем. «Ни один из старожилов не найдет ярко освещенную площадь, по которой прогуливаются толпы горожан»113. Образ наводненной народом площади отсылает скорее к литературной традиции изображения Лондона: преувеличенная многолюдность английской столицы была общим местом в американской эссеистике того времени114. Город, где сменяют друг друга бесчисленные людские потоки – деталь, своей гротескностью поразившая Вальтера Беньямина: «Действия [горожан] предстают еще более лишенными человеческих свойств из-за того, что у По упоминаются только люди. Если толпа останавливается, то это происходит не из-за того, что ей мешают экипажи, – о них нет ни слова, – а из-за того, что путь ей преграждают другие толпы»115.
Прохожие четко поделены на «шеренги», социальные и профессиональные касты – в традициях современной По городской литературы116. Но здесь социальная стратификация толпы опять же доведена до гротеска. Например, так наблюдатель изображает клерков: «Все они были лысоваты, у каждого правое ухо, оттого что за него часто закладывали перо, странным образом оттопыривалось. Я заметил, что все они снимают и надевают шляпу обеими руками и носят часы, снабженные короткими и массивными цепочками старинного образца» (курсив мой – А.У.) (374—375). Тела, выхватываемые взглядом из толпы, напоминают автоматы или заводные механизмы. Взгляд героя – это взгляд отчуждающий, гротескно преувеличивающий и деформирующий увиденное.
«Человек толпы» Эдгара По не случайно вошел в историю культуры как один из первых текстов о фланере, благодаря статье Шарля Бодлера «Художник современной жизни» («Le Peintre de la vie moderne», 1863) и работам Беньямина о Бодлере117. Сразу же оговорим, что само понятие фланера довольно противоречиво и неясно; как и, например, «богема», оно «совмещает в себе смысл, который не поддается прямой дешифровке», провоцируя «некий нечеткий собирательный образ»118. Фланер – предельно внимательный и в то же время праздный прохожий, изучающий городскую толпу без какой-либо цели. Точность его наблюдения не препятствует фантазированию, привнесению в увиденное нереального и гротескного. Скорее «читая», чем созерцая, он наделяет детали значением. По отношению к толпе он занимает отстраненную и даже высокомерную позицию, но сам в любой момент может оказаться «затянутым в ее водоворот»119 или попасть «под прицел» чужого взгляда. В то же время он больше увлечен, чем одержим; любопытен, чем заинтересован.
В наблюдателе По нетрудно узнать фланера. Однако стоит попытаться установить временные границы самого феномена, как возникнет вероятность разночтения. Если вслед за Беньямином ограничивать фланерство Парижем времен Третьей Республики, то «Человек толпы» будет слишком ранним, как бы несвоевременным текстом120. Если же сдвигать границу вниз, до 1806 г., как Присцилла Паркхерст Фергусон121, или до начала XVIII в., как Дана Бранд122, то рассказ По уже окажется вписанным в определенную историко-культурную и литературную традицию. Более того, как настаивает Бранд, «Человек толпы» был одним из многочисленных текстов о фланерстве в рамках самой американской литературы. Очерки городской жизни в похожем стиле писал друг По, известный литератор Натаниэль Паркер Уиллис; образ наблюдателя-фланера мы встречаем, например, в «Романе о Блайтдейле» Натаниэля Готорна (The Blithedale Romance, 1852), герой которого, Майлз Ковердейл, с непринужденным любопытством, покуривая сигару, рассматривает прохожих из окна бостонского отеля123. В таком случае герой По – это скорее исчезающий со сцены американской городской жизни фланер. В романах о тайнах Бостона, Нью-Йорка или Филадельфии в духе Эжена Сю, ставших необычайно популярными в 1840-50-ые гг., его заменит герой-обличитель, борец с несправедливостью и социальным злом124. В новеллистике самого По – детектив Огюст Дюпен, придуманный в том же, 1840-м г. Знаменитого сыщика, хотя и читающего город как текст, никак нельзя назвать праздным, незаинтересованным наблюдателем: он раскрывает преступления и сотрудничает с префектом полиции125.
Правда, и герой-наблюдатель «Человека толпы» на поверку не вполне соответствует очерченному выше собирательному портрету фланера. В этой связи нам представляются важными два наблюдения Беньямина, указывающие в том числе и на неоднозначность его собственного суждения о фланере в «Человеке толпы». Во-первых, изображение толпы в рассказе По совершенно лишено «непосредственности зрительного впечатления»126. По представляет город настолько гротескным, что он перестает быть городом под взглядом наблюдателя: его описание позволяет вообразить, что будет с фланером, если «отобрать у него среду, к которой он принадлежит»127. Во-вторых, в «человеке толпы» «маниакальная одержимость» уступила место свойственной фланеру «беспечности»128. Это замечание, которое Беньямин относит к таинственному старику, ошибочно интерпретируя высказывание Бодлера129, не в меньшей, если не в большей степени подходит и герою-наблюдателю. Последний в конце концов покидает свое место у окна кофейни и пускается в погоню за поразившим его стариком, движимый не столько любопытством, сколько одержимостью самого преследования130.
Стоит герою столкнуться с явлением, которое представляет собой «излишек» смысла по отношению к выстраиваемой им системе, как он временно утрачивает способность к рефлексии. В самом деле, старик не подходит ни к одной из очерченных социальных каст и одновременно подходит ко всем сразу:
Пока я пытался за краткий миг моего первого взгляда хоть как-то разобраться в полученном впечатлении, в голове моей парадоксально возникли представления об осторожности, обширном уме, нищете, скряжничестве, хладнокровии, злобности, кровожадности, злорадстве, веселости, крайнем ужасе, бесконечном – глубочайшем отчаянии. Я почувствовал несказанную взволнованность, изумление, одержимость (376—377).
Более того, плутая по улицам и переулкам ночного Лондона, оба – и преследователь, и незнакомец – подчиняются его лихорадочному, судорожному ритму: на одной из улиц наблюдатель даже замечает, что по телу старика проходит судорога. Непогода заставляет героя вновь вспомнить о болезни: «застарелая лихорадка делала влажность воздуха особенно приятною» (377). Он обвязывает рот платком – деталь, наряду с бесшумными каучуковыми галошами, подчеркивающая его сходство с детективом. Но и старик, по всей очевидности, страдает тем же недугом: «Я увидел, что смешиваясь с толпою, старик жадно вобрал в себя воздух, как бы задыхаясь» (379). В рассказе происходит миметическое удвоение персонажей, что позволяет Роберту Байеру говорить об «энергии толпы» как о «заражении», трансформирующем видение героя-наблюдателя131.
Сама толпа, которую герой делил на страты и «читал» по заданным правилам как газетную полосу, теперь совершенно исчезает из поля зрения. Контуры видимого перестают быть четкими; людская масса превращается в текучую и неясную, безликую субстанцию, смешавшись с дождем и туманом. «Над городом навис густой и сырой туман, перешедший в непрерывный крупный дождь… Все тотчас переполошились и попрятались под бесчисленными зонтиками. Колыхания, толчея, гомон удесятерились» (377). Жизнь города теперь описывается через образы нарастающего и убывающего потока: «Второй поворот вывел нас на ярко освященную площадь, где кипела жизнь… Все еще ярко горел газ; но хлестал свирепый дождь, и народу было мало… Зрители хлынули на улицу…» (379).
Рассказ, таким образом, условно распадается на две части, соответствующие двум различным моделям репрезентации урбанистического пространства. В первой герой наблюдает, объективируя видимое при помощи различных техник «чтения» и под «действием планомерно искажающей фантазии». Во второй, захваченный преследованием старика, он теряет способность к наблюдению; удвоение, «заражение», растворение в людском потоке грозят превращением самого наблюдателя в «человека толпы»: и в притчевом контексте новеллы, и на уровне телесно-миметических процессов, которые начинают управлять повествованием. Вместо городской среды, «приватного пространства» для фланера, в рассказе есть нездоровая атмосфера. Ее флюиды лишают рассказчика возможности одновременно или попеременно поддаваться очарованию толпы и сохранять дистанцию, фланировать в настоящем смысле этого слова. Правда, в финале герой все же находит в себе силы прекратить преследование и даже произнести моральную сентенцию: «Старик, – сказал я себе, – олицетворенный дух глубокого преступления. Он отказывается быть один. Он – человек толпы» (381). Эта фраза, однако, есть не что иное, как признание собственного бессилия (старик – «книга, которая не позволяет себя прочесть»: 372), отчаянная попытка обратиться за помощью к дидактической риторике, о которой наблюдатель на время забывает.
Перед нами – и создание, и разрушение фланерства как модели: герой По теряет необходимое для фланера равновесие, способность балансировать на грани; восстановление равновесия становится возможным только ценой отказа от наблюдения. Видение, зависимое от вмешательства внешних по отношению к нему процессов и обстоятельств, ненадежно; положение наблюдателя крайне неустойчиво: окно кофейни буквально обозначает собой границу, за которой оказывается невозможно объективировать видимое. Чтобы наблюдать, герою нужна дистанция (кофейня / толпа) и «рамка» (задымленные оконные стекла). За современными моделями наблюдения, к которым По – на удивление чуткий к новым веяниям художник – активно прибегал, угадывается одна и та же схема: визуальное «переписывается» как читаемый по заданным правилам текст, опосредуется «готовым» изображением или словом; тем самым преодолевается опасность слишком близкого, «бесперспективного» зрения, говоря словами М. М. Бахтина132. Как видит герой По? На этот вопрос мы постараемся ответить, обратившись к пасторалям и рассказам с мотивом оптического обмана.
Пастораль и панорама
Городской пейзаж для По – скорее исключение, чем правило, несмотря на то что его собственная жизнь была связана прежде всего с городом: зарабатывая на жизнь журналистикой и редакторским делом, он циркулировал между Ричмондом, Филадельфией, Бостоном и Нью-Йорком – центрами культурной и литературной жизни того времени. В американской литературе 1830-40-ых гг. с жанром городского очерка соперничала традиционно более влиятельная в Соединенных Штатах пасторальная традиция. Неудивительно, что и По в своих новеллах о природе охотно использует пасторальные мотивы полусна, уединения, золотого века, райского сада. В отличие от города, где бродят неприкаянные души и совершаются преступления, перед нами открывается идиллическое пространство грезы наяву. «Понемногу усыпленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней – того „доброго старого времени“, когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведомы, „водные угодья“ не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось и краснокожий»133.
Вместе с тем, на традиционную пасторальную образность у По накладываются новые визуальные модели и техники. Это хорошо видно на примере самого известного рассказа этого жанра, «Поместье Арнгейм» («The Domain of Arnheim», 1838), в котором описывается земной Эдем, созданный по замыслу и плану героя – получившего баснословное наследство мистера Эллисона. Унаследованные средства герой вкладывает, к удивлению своих знакомых, в декоративное садоводство, предпочитая его всем прочим искусствам. Эллисон убежден, что природный ландшафт, созданный для созерцания ангелов, несовершенен с «человеческой» точки зрения. Геологические нарушения, то есть нарушения форм и цветовых сочетаний, не только некрасивы, но и предвещают уготованную человеку смерть. Высокая задача героя состоит в том, чтобы приспособить «прямые и энергичные усилия Природы» к «глазам, что должны увидеть их на земле», сглаживая и исправляя дефекты земной поверхности. «Не сыщется в действительности райских мест, подобных тем, что сияют нам с полотен Клода… Если составные части и могут по отдельности превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, могущее быть улучшенным» (558). Свою эстетическую и метафизическую программу Эллисон воплощает на практике, в создании совершенного поместья.

