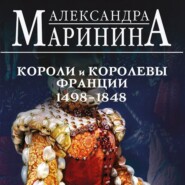По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горький квест. Том 3
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если честно, это было ужасно, – признался Артем. – Но очень познавательно. Даже не верится, неужели так и в самом деле могло быть? Или диалоги все-таки сильно приукрашены?
Профессор вздохнула.
– Диалоги для игры на отборочном туре мы придумывали, конечно, сами, но не на пустом месте. Могу рассказать одну историю из жизни, она имела место в школе, где училась моя двоюродная сестра. Хорошая московская школа, английская, но не привилегированная, как та, в которой учился Володя Лагутин, а обычная, районная. Работал в ней прекрасный учитель литературы, новатор, творческий человек, пытавшийся научить подростков мыслить самостоятельно, а не повторять написанное в учебнике. На него написали донос в ЦК, якобы он занимается на уроках антисоветской пропагандой. Начались визиты проверяющих из ЦК и из управления народного образования. Потихоньку, тайком, опросили десятерых ребят, учеников этого педагога, задали вопрос: «Кто твой любимый писатель?» Надеялись, вероятно, что подросток по неосторожности назовет Пастернака, Булгакова или еще кого-нибудь, кто был в немилости. Восемь человек назвали Пушкина, двое других Лермонтова и Толстого. Казалось бы, торжество справедливости? А вот и нет.
– Как же так? – изумился Артем. – Пушкина нельзя было любить? Или я чего-то не знаю?
– Проверяющие докладывали на педсовете: учитель не прививает ученикам любовь к советской литературе, у детей все любимые писатели оказались русскими, дореволюционными, значит, виноват учитель, не соблюдает и не разъясняет на уроках принцип партийности советской литературы.
Глаза Наташи расширились, и только сейчас Артем заметил, какие они огромные и синие.
– Какой ужас, – почти прошептала она. – Неужели это всерьез? Неужели так и вправду было? В это невозможно поверить.
– И тем не менее было именно так. Мама моей кузины работала учителем химии в этой школе и присутствовала на том самом педсовете, так что все сведения получены из первых рук.
– А что потом стало с этим учителем? Удалось ему отбиться от проверок? – с интересом спросил Артем.
– Съели учителя, – грустно ответила профессор. – Не дали работать. А жаль. Талантливый был человек, и в детях талант умел пробудить. Сестра как раз у него училась, так что ситуация разворачивалась, можно сказать, у меня на глазах. Кстати, она была одной из тех восьмерых, кого тайком опрашивали и кто назвал Пушкина.
Вернувшись от Галины Александровны, Артем застал Вилена в постели с книгой в руках. Они проговорили почти два часа, потом Артем ушел к себе в комнату, лег, но заснуть смог только за час до звонка будильника. Вилен многое скорректировал в его рассуждениях, и к утру Артем Фадеев был уверен, что нашел решение задачи. Цель достигнута, и можно смело бросать квест и уезжать.
Правда, если он уедет, то больше не увидит Ирину. Ну и что? Все равно они только здороваются, а поговорить с ней удалось лишь во время комсомольского собрания, где она играет роль секретаря комсомольской организации института. Таких собраний, как обещали организаторы, будет несколько, но все равно шансов на успех мало. Между ними ничего не может быть, и Артему нужно просто собрать себя в кулак и перетерпеть.
Записки молодого учителя
«ДАЧНИКИ»
Пьесе «Дачники» в учебнике отведено совсем немного места: если пьесе «На дне» посвящено целых четыре страницы текста, то «Дачникам» – всего полстранички, да и то львиную долю объема занимает цитирование стихотворения Власа, а также высказывания самого Горького о сути пьесы, правда, без ссылки на первоисточник, так что невозможно проверить, действительно ли Алексей Максимович такие слова написал.
И снова мне приходится не соглашаться с учебником! Хотя должен признать, что по мере составления этих «Записок» я постепенно учусь делать это деликатно и неявно. Учебник провозглашает «правильными интеллигентами» Марью Львовну, Власа, Соню и Зимина, всех прочих персонажей записывая в «омещанившихся обывателей, которые заботятся только о своем покое и благополучии». «Эти люди, – говорится в учебнике, – чувствуют страх перед жизнью, стремятся спрятаться от суровой действительности, они – дачники в своей стране». Как говорится, не смею спорить… Все так и есть. Причем не только тогда, на рубеже веков, но и сейчас, после шестидесяти с лишком лет непрерывного строительства светлого будущего. Взять хотя бы мою семью со всеми благами, дачами, персональными автомобилями с водителями, продуктовыми пайками из горкомовских и исполкомовских распределителей, «белыми списками» для покупки дефицитных книг, связями и знакомствами… Никогда не поверю, что отец с матерью ни сном ни духом не ведают, как живут другие люди, не допущенные к кормушке. Не поверю, что они не знают об отвратительном качестве товаров, произведенных на советских заводах и фабриках, о том, что товары эти неконкурентоспособны и люди не хотят их покупать, но вынуждены делать это, потому что никаких других товаров просто нет. Мои родители отлично осведомлены и об истинном положении дел, и о том, что все громкие слова о выполнении и перевыполнении планов и о том, что «советское – значит отличное!», есть не что иное, как огромная и всем надоевшая ложь. И что же? Они не захотели жить как все, носить то, что продается в советских универмагах, и есть продукты, которые наличествуют на прилавках, они спокойненько и удобненько спрятались от суровой действительности. Они – точно такие же дачники в своей стране, как и те, кого Горький «всеми силами души презирал» (как гласит учебник). Только теперь, во второй половине двадцатого века, мои родители отнюдь не презренные, а очень даже уважаемые люди, светоч и маяк для рядовых граждан. Вот такие странные метаморфозы.
Влас из «Дачников» мне, кстати, очень понравился, но вовсе не по тем причинам, которые предлагает нам школьный учебник. Мою симпатию он завоевал уже тем, что стал жертвой родительских амбиций – учился там, где велел отец, и в результате приобрел не знания, а одно только отвращение к наукам. Как мне это понятно! А дальше, во время разговора с Марьей Львовной, Влас произносит слова, сделавшие его не только понятным мне, но и близким, своим: «Тошно мне, Марья Львовна, нелепо мне… У меня голова засорена каким-то хламом… Мне хочется стонать, ругаться, жаловаться… Я, кажется, начну пить водку, черт побери! Я не могу, не умею жить среди них иначе, чем они живут… и это меня уродует…» И затем: «Вы не поверите – порой так хочется крикнуть всем что-то злое, резкое, оскорбительное…» Вот и я точно такой же Влас, от ногтей до волос. С той лишь разницей, что ему пока еще только «кажется», а мне уже ничего не кажется; свой рубеж я переступил. А ведь мы с Власом ровесники, ему, как и мне, 25 лет… Акселерация, наверное.
Однако самыми для меня интересными персонажами в «Дачниках» стали Рюмин и писатель Шалимов, в учебнике и вовсе не упомянутые. Начну с Якова Шалимова, писателя, приехавшего к старому приятелю на дачу отдохнуть от светской суеты, собраться с мыслями. Шалимов находится в том состоянии, которое, наверное, как раз и называется творческим кризисом: «Ничего я не пишу… И какого черта тут напишешь, когда совершенно ничего понять нельзя? Люди какие-то запутанные, скользкие, неуловимые… Но – надо кушать, значит, надо писать. А для кого? Не понимаю… Лет пять назад я был уверен, что знаю читателя… и знаю, чего он хочет от меня… И вдруг, незаметно для себя, потерял я его… это чужие мне люди, не любят они меня. Не нужен я им… как латинский язык… Стар я для них… и все мои мысли – стары…» На этих строках слезы наворачиваются на глаза, и я снова вспоминаю «Мещан»: вот человек, молодой и полный сил, делает то, что ему интересно, нравится, получается, делает из года в год, наслаждается результатами своего труда, и вдруг оказывается, что выросло новое поколение, которому результат твоего искреннего и увлеченного труда не нужен, не привлекателен, не востребован. И человек теряется и перестает понимать, как и для чего ему трудиться дальше, если то единственное, что он любит и умеет делать и что кормило его много лет, становится никому не нужным. К Шалимову в этой сцене я испытываю такую же острую щемящую жалость, как и к Петру Артамонову из «Дела Артамоновых», и к Бессеменову из «Мещан». Новое поколение хочет жить по новым законам, старое поколение выбрасывается на свалку за ненадобностью. Жестокий закон!
И еще один закон, не менее, наверное, жестокий: писатель в нашей стране «всем должен». Великолепные сцены сперва Басова с Марьей Львовной, а затем Шалимова с Варварой Михайловной выпукло рисуют нагло-потребительское отношение людей к литераторам, особенно популярным, известным. Басов, на дачу к которому приехал отдохнуть и перевести дух Шалимов, старается защитить давнего приятеля от нападок и завышенных требований: «Нельзя же так, уважаемая! По-вашему выходит, что если писатель, то уж это непременно какой-то эдакий… герой, что ли? Ведь это, знаете, не всякому писателю удобно». На что Марья Львовна категорично заявляет: «Мы должны всегда повышать наши требования к жизни и людям». И далее: «Но мы живем в стране, где только писатель может быть глашатаем правды, беспристрастным судьею пороков своего народа и борцом за его интересы… Только он может быть таким, и таким должен быть русский писатель…» И продолжает после ответной реплики Басова: «Я этого не вижу в вашем друге, не вижу, нет! Чего он хочет? Чего ищет? Где его ненависть? Его любовь? Его правда? Кто он: друг мой? Враг? Я этого не понимаю…»
В этом коротком диалоге Марьи Львовны с Басовым есть и простор для моих собственных размышлений, и тема для обсуждения с учениками. На уроке можно было бы предложить ребятам поговорить о том, обязательно ли в литературном произведении должны быть ненависть, любовь и правда. И обязательно ли писателю быть «героем» и «глашатаем», непременно ли нужно «обличать пороки», чтобы произведение стало интересным читателю и любимым.
Более тонкий вопрос о позиции Марьи Львовны я ученикам, конечно, предложить не осмелюсь, но сам для себя его обдумываю. Обращу снова внимание на ее слова: «Кто он: друг мой? Враг? Я этого не понимаю…» Реплика произносится, вероятнее всего, с раздражением и негодованием. Авторской ремарки об интонации в тексте Горького нет, но есть указание на движение: на словах «Я этого не вижу в вашем друге» Марья Львовна сходит с террасы, после «Я этого не понимаю…» быстро уходит за угол дачи. Таким образом, описание движения ясно показывает: разговор вызывает у Марьи Львовны негативные эмоции, и быстрый уход за угол в данном случае, я уверен, равносилен хлопанью дверьми. Что же получается? Во всей сцене видно, как Марья Львовна давит на Басова, не давая ему возможности обдумать и развернуть аргументацию, а ведь Басов – адвокат, человек, привыкший к устному изложению мыслей, обладающий быстрой реакцией и не лезущий за словом в карман. Какой же силы должно быть это давление, чтобы растерялся даже такой персонаж, как адвокат Басов? В этом месте Марья Львовна начинает вызывать неприязнь, во всяком случае, у меня. Очень сильно вся сцена напомнила мне многочисленные комсомольские собрания, на которых пришлось высиживать в последние десять лет… Но вернемся к Марье Львовне. Она, видите ли, не понимает, друг ей писатель или враг. И виноват в этом, разумеется, сам писатель. Забавно. Здесь предметом для внутренних размышлений являются два аспекта. Первый: почему каждого человека нужно непременно записать в друзья или во враги? Так ли уж это необходимо? И если человек испытывает потребность в классификации окружающих, в ранжировании, то почему только два класса, два ранга? Кто и где сказал, что их должно быть два, а не три, не десять, не сто? Это что, такое своеобразное преломление постулата о единстве и борьбе противоположностей? Да, для каждой прямой противоположностей две, это правда. Но кто и, опять же, где сказал, что жизнь и душа человека – всего лишь прямая линия? Возьмите любую окружность: у каждого конкретного диаметра есть две противолежащие точки на окружности, но сколько их, этих диаметров, проходящих через один и тот же центр одного и того же круга? Вот именно! Однако ж Марья Львовна непоколебимо убеждена, что из каждого писателя надобно сотворить либо друга себе, либо врага. Дальше – больше: при невозможности навесить на писателя ярлык у Марьи Львовны и всех ей подобных возникают обида и негодование. Она, видите ли, не понимает. Не понимает! Как хорошо: не понимает «она», а претензии предъявляются к «писателю», он виноват. В одной реплике Марьи Львовны показана целая типичная философия, уж не знаю, русского ли человека или человека вообще: стремление найти того, кто виноват, сбиться в стаю (то есть объединиться с друзьями) и обозначить врага как объект совместной с друзьями травли.
Несчастный Шалимов, как выяснилось, виноват во всем и перед всеми, и не только перед Марьей Львовной, но и перед Варварой Михайловной, которая когда-то семнадцатилетней девушкой увидела писателя Шалимова на литературных чтениях и влюбилась. Разумеется, платонически: «Как я любила вас, когда читала ваши книги… как я ждала вас! Вы мне казались таким… светлым, все понимающим… Таким вы показались мне, когда однажды читали на литературном вечере… мне было тогда семнадцать лет… и с той поры до встречи с вами ваш образ жил в памяти моей, как звезда, яркий… как звезда! …Задыхаясь от пошлости, я представляла себе вас – и мне было легче… была какая-то надежда… И вот вы явились… такой же, как все! Такой же… Это больно!» Каково, а? Дамочка сама себе что-то там напридумывала, сама создала образ, сама влюбилась, а когда выяснилось, что живой, реальный человек на этот выдуманный образ совсем не похож, предъявляет ему же претензии, дескать, он виноват, какой негодяй, не оправдал ожиданий. Иными словами, Варвара Михайловна, как и Марья Львовна, отрицает право другого человека быть самим собой и жить собственной жизнью, собственными интересами, считаться с собственными потребностями. Считаться можно и нужно только с потребностями окружающих, в особенности – читателей, конкретно – вышеуказанных двух дам, одна из которых, между прочим, провозглашается школьным учебником «представителем передовой интеллигенции», борющейся за лучшую жизнь пролетариата и крестьянства. Может, именно поэтому после революции так широко распространилось умение по любому поводу искать виноватых и записывать во враги… Передовая дореволюционная интеллигенция сначала возглавила революцию, а потом навязала молодой республике свой образ мышления.
У Варвары Михайловны есть еще одна претензия к Шалимову: почему он не учит людей жить лучше? Он же писатель, он должен, обязан! Шалимов, человек умный, тонкий и честный, объясняет ей, что в нем «нет самонадеянности учителей», он «чужой человек, одинокий созерцатель жизни», он не умеет «говорить громко». Сперва он и в самом деле пытается что-то объяснить Варваре Михайловне, достучаться до нее, заставить услышать свои искренние слова, но… Тупое стремление Варвары назначить его виноватым заставляет Шалимова почти сорваться: «Почему вы применяете ко мне иные требования… иные мерки, чем вообще к людям?.. Вы все… живете так, как вам нравится, а я, потому что я писатель, должен жить как вы хотите!» Со словами Шалимова трудно не согласиться. К писателям, увы, в нашей стране относятся именно так. И эту тему, только в очень аккуратной формулировке, тоже можно было бы вынести в класс на обсуждение.
Вообще-то в этом месте мне даже стало стыдно, я ведь и сам грешил подобным отношением к писателям. Что поделать, нас так воспитывали школьные учебники, ибо живых настоящих писателей я в глаза не видел, кроме как на телеэкране, когда они произносили какие-то правильные мутные славословия на очередных съездах либо партии, либо Союза писателей.
Но самым любимым моим персонажем в «Дачниках» является Рюмин, безответно влюбленный в Варвару Михайловну, замужнюю даму, супругу адвоката Басова. Главное достоинство Рюмина в моих глазах состоит в том, что он не приемлет косности и нетерпимости. В сцене Рюмина с Варварой Михайловной и Марьей Львовной в первом действии интересный и важный разговор о том, до какой степени нужно говорить правду детям, перерастает в не менее важную дискуссию о праве человека желать обмана. Рюмин считает, что такое право есть, и готов его отстаивать, дамы же его не поддерживают и возражают. Рюмин настаивает на том, что человек, видя вокруг себя грязь, пошлость, грубость и гадость, не может уничтожить противоречия жизни, не может изгнать из нее зло и грязь, но должен хотя бы иметь право отвернуться и не смотреть ежечасно и ежеминутно на эту печальную картину. «Я только против этих… обнажений… этих неумных, ненужных попыток сорвать с жизни красивые одежды поэзии, которая скрывает ее грубые, часто уродливые формы… Нужно украшать жизнь! Нужно приготовить для нее новые одежды, прежде чем сбросить старые…» И далее: «Человек хочет забвения, отдыха… мира хочет человек!» Марья Львовна такого человека, желающего отдыха и мира, тут же презрительно именует «обанкротившимся», а Варвара Михайловна удивляется тому, что еще два года назад у Рюмина была другая точка зрения. Вот в этом месте я долго смеялся! Ладно бы речь шла о пяти минутах или, в крайнем случае, нескольких часах, в течение которых человек кардинально поменял свою позицию, свои взгляды и принципы, но два года! То есть чудесная Варвара, предмет безответной любви Рюмина, не меняется и не развивается сама, застыла в своих семнадцати годах (а сейчас ей уже целых 27!) и не признает права других людей на изменения и развитие: «Я помню, года два тому назад вы говорили совсем другое… и так же искренно… так же горячо…» – укоряет она Рюмина, и тот отвечает: «Растет человек, и растет мысль его!» Марья Львовна и тут не удерживается от сарказма: «Она мечется, как испуганная летучая мышь, эта маленькая, темная мысль!» Рюмин, волнуясь, возражает: «Она поднимается спиралью, но она поднимается все выше!» В этом коротком быстром обмене репликами все трое как на ладони: Варвара с непониманием того, как можно вообще менять свое мнение и свои оценки; Марья Львовна с традиционным лозунгом: «Все, с чем лично я не согласна, заведомо плохо и неприемлемо» и со стремлением оскорбить и унизить то, что непонятно или не нравится; Рюмин со своим искренним желанием душевного покоя и готовностью к изменениям, переосмыслениям и переоценкам. Ну и кто из троих наиболее симпатичен? Кстати, чуть позже Рюмин скажет о Марье Львовне, что она «в высокой степени обладает жестокостью верующих… слепой и холодной жестокостью…» Отличные слова! Хотелось бы знать, можно ли применять их к тем нашим современникам, которые уверяют, что верят в коммунизм. И опять вспомнились наши комсомольские собрания…
В следующем действии Рюмин снова повторит свою оценку Марьи Львовны: «Люди этого типа преступно нетерпимы… Почему они полагают, что все должны принимать их верования?» Нетерпимость – преступна. Хорошая тема для дискуссии с учениками. Но следует проявить аккуратность, чтобы слова о преступной нетерпимости никоим образом не соединились с революционными устремлениями Марьи Львовны, ее дочери Сони и поклонника Сони, Зимина. Иначе не сносить мне головы… Порой я забываю, что пишу всего лишь полухудожественные-полумечтательные очерки, и начинаю мыслить как настоящий учитель, готовящийся к настоящему уроку литературы с настоящими школьникам и в настоящей советской школе. Я ухожу от действительности в вымысел в наивных попытках отвернуться и не видеть грязь и пошлость окружающей меня действительности. Я – Рюмин, я – Рюмин, я – Рюмин…
И еще одно забавное наблюдение, которым я не могу не поделиться. Но сперва напомню: согласно школьному учебнику, проповедник «сладкой лжи» Лука из пьесы «На дне» кругом неправ, а Сатин, защитник «горькой правды», – глашатай авторской позиции, сиречь истины в последней инстанции. Давайте вспомним о любопытной «биологической» концепции Луки, касающейся смысла жизни человека, казалось бы, никчемного и бессмысленного, согласно которой смысл может состоять в том, что когда-нибудь потомок этого ненужного человечка принесет огромное благо обществу и цивилизации. А вот диалог Рюмина все с той же Марьей Львовной: Рюмин утверждает, что людей, испуганных жизнью, очень много, потому что жизнь ужасна и в ней все строго предопределено, и только бытие человека случайно, бессмысленно, бесцельно; а Марья Львовна в ответ на это говорит… Угадайте – что? Цитирую: «А вы постарайтесь возвести случайный факт вашего бытия на степень общественной необходимости, – вот ваша жизнь и получит смысл…» Ничего не напоминает? И как же так вышло, что носители одной и той же мысли в разных произведениях получают разную оценку в учебнике? Лука вроде как неправ, ибо коль он неправ в вопросе о правде и лжи, то уж неправ тотально и во всем, у нас же так не бывает, чтобы человек был прав в одном и неправ в другом. Стоит кому-то высказать одну-единственную мысль, которая кому-то покажется верной и полезной, автора мысли немедленно возводят в ранг классика, гения и кумира, и тут уж любой его пук и чих становятся объектами самого подобострастного анализа с заранее предопределенным выводом: это гениально! Если же мысль по вкусу не пришлась, то человек записывается в вечные и непримиримые враги, и все, что он когда бы то ни было говорил или писал, объявляется неправильным и вредным. Вот не повезло бедному Луке! Зато Марья Львовна – олицетворение всего лучшего и передового в русской дореволюционной интеллигенции, и каждое ее слово – бриллиант истины. Если уж Лука неправ в вопросах правды и лжи, то, стало быть, и биологическая теория его вредна и порочна, но когда то же самое произносит положительная Марья Львовна, становится трудновато придумать трактовку, которая годилась бы для школьного учебника.
Рюмин симпатичен мне не только готовностью к переменам и нетерпимостью к нетерпимости, но и желанием свободы мысли и чувства. Он не выносит, когда ему пытаются навязать что-то со стороны, он хочет сам все прочувствовать, передумать и прийти к собственным выводам, пусть даже неправильным, но своим. «Когда я слышу, как люди определяют смысл жизни, мне кажется, что кто-то грубый, сильный обнимает меня жесткими объятиями и давит, хочет изуродовать…» Эти слова очень мне близки. В таких грубых жестких объятиях я задыхаюсь все 25 лет своей жизни.
Совершенно потрясла меня сцена объяснения Рюмина с Варварой Михайловной, когда он решился открыть ей свои чувства. Варвара ответить на них не может, она не испытывает к Рюмину ничего, кроме дружеской симпатии, иными словами – она не оправдывает его надежд и ожиданий. И что же? «На ваше отношение ко мне я возложил все надежды, – говорит Рюмин. – А вот теперь их нет – и нет жизни для меня…» И Варвара на голубом глазу отвечает: «Не надо говорить так! Не надо делать мне больно… Разве я виновата?» Вот так, мои дорогие. Когда Шалимов не оправдал надежд Варвары, он был немедленно назначен ею виноватым. А когда надежд не оправдала сама Варвара, то она ни в чем не виновата, белая и пушистая. Пожалуй, эта дама вызывает у меня самое большое отвращение среди всех персонажей пьесы. Даже Марья Львовна – и та лучше! Она упрямая, негибкая, не особенно умная, но у нее хотя бы одна мерка для всех и для себя самой в том числе, то есть она искренняя. А Варвара…
Но этот эпизод снова возвращает нас к проблеме горькой правды и сладкой лжи, которой так много внимания уделено в учебнике в связи с пьесой «На дне». В ходе объяснения с Варварой Михайловной Рюмин восклицает: «А я хочу быть обманутым, да! Вот я узнал правду – и мне нечем жить!» Похоже, и этот вопрос беспокоил Алексея Максимовича, коль он к нему не один раз обратился.
Ну и, конечно же, какая пьеса Горького может обойтись без суицида! Рюмин пытается застрелиться, но неудачно, он получает всего лишь нетяжкое ранение. Ему стыдно, он просит прощения у Варвары Михайловны… Ужасная тягостная сцена, которая заканчивается словами Рюмина о самом себе: «Да… вот, жил неудачно и умереть не сумел… жалкий человек!» Когда читал пьесу впервые, в шестнадцать лет, эпизод меня не впечатлил. Зато теперь, когда перечитывал, глотал слезы.
Но суицидальная попытка Рюмина – не единственное самоубийство в пьесе, о сведении счетов с жизнью говорится не раз. Сперва обсуждают юнкера, у которого сестра застрелилась: «Не правда ли, какой сенсационный случай… барышня и вдруг – стреляется…» Далее, уже в другом действии, Юлия Филипповна предлагает своему мужу Суслову, вынимая из кармана маленький револьвер: «Давай застрелимся, друг мой! Сначала ты… потом я!» Суслов совершенно справедливо расценивает эти слова как шутку, однако Юлия довольно долго и пространно рассуждает на тему самоубийства, делая вид, что говорит серьезно. Через некоторое время уже сам Суслов, осознав, вероятно, что из самоубийства вполне можно сделать повод для шутки, замечает как бы мимоходом в ответ на реплику о том, что люди «живут без действия»: «А вот я застрелюсь… и будет действие». На что Рюмин, отрицательно качая головой, отвечает: «Вы – не застрелитесь». Интересно, существует ли такая закономерность, согласно которой человек, много говорящий о самоубийстве, никогда не поднимет руку на самого себя? Сам Горький в этом смысле примером быть вряд ли может, ведь он сначала дважды пытался покончить с собой, лет эдак в девятнадцать-двадцать, а уж потом начал писать (и думать) о суицидах, и делал это до самой своей смерти.
Еще меня зацепили отдельные реплики отдельных персонажей. Даже не знаю почему. Или знаю, но не признаюсь никому. Например: «Мне все равно!.. Все равно, куда я приду, лишь бы выйти из этой скучной муки!» (Ольга Алексеевна); «У меня в душе растет какая-то серая злоба» (Калерия); «Когда я выпью рюмку крепкого вина, я чувствую себя более серьезной… жить мне – хуже… и хочется сделать что-то безумное» (Юлия Филипповна).
Отдельно скажу о Суслове, о его монологах в четвертом действии: они снова заставили меня, как и слова Бессеменова и Тетерева в «Мещанах», под иным углом взглянуть на родителей. С одной стороны, то, что говорит Суслов, полностью применимо и к моему отцу: «Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек… Вы где-то там делаете что-то таинственное… может быть, великое, историческое, это уж не мое дело!.. Очевидно, вы думаете, что эта ваша деятельность дает вам право относиться к людям сверху вниз. Вы стремитесь на всех влиять, всех поучать…» Именно таким и является мой отец, крупный столичный партийный начальник. В чем смысл и суть его деятельности – мне неведомо, но он ужасно важный человек, вершит какие-то там судьбы, следит, чтобы коммунисты Москвы правильно боролись за правильные идеалы, сильно устает на работе, а дома продолжает руководить и поучать, если вообще соизволяет открыть рот. Но с другой стороны, далее Суслов говорит вещи не столь однозначные, например, о том, что люди, наголодавшиеся и наволновавшиеся в юности, имеют полное право в зрелом возрасте хотеть много и вкусно есть, пить, отдыхать и вообще наградить себя с избытком за беспокойную, голодную, трудную юность; такая психология может кому-то не нравиться, но она вполне естественна, и с этим нужно считаться. «Прежде всего человек, почтенная Марья Львовна, а потом все прочие глупости…» Вот тут я и призадумался: вроде бы нам всегда внушали, что стремление к материальным благам и физическому комфорту есть мещанство и недостойно советского человека, но ведь мои родители пережили Великую Отечественную войну, а бабушка Ульяна – еще и войну Гражданскую, и, наверное, нет ничего предосудительного в том, что в зрелые годы они так цепляются за свои пайки и прочие блага… Смутила меня эта сцена у Горького, поколебала уверенность в собственной правоте. Выступление Суслова заканчивается его открытым признанием: «Я обыватель – и больше ничего-с! Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем… Я буду жить как я хочу!» Однако сильнее всего меня поразила реакция Марьи Львовны: «Да это истерия! Так обнажить себя может только психически больной!» Пьеса написана в 1904 году, прошло 75 лет, и ничего не изменилось. По-прежнему тех, кто не согласен с руководящей идеей, считают психически больными. Трудно поверить, что за 75 лет ни наука, ни представления людей не сдвинулись с места. Приходится делать неутешительный вывод, что приравнивание инакомыслия к психическому заболеванию – не более чем удобный прием, позволяющий уклоняться от открытой дискуссии. Удивительно, что идеология за 75 лет не претерпела никаких изменений и настолько обленилась, что даже новых приемов не выработала.
Вернусь к Суслову: в самом начале пьесы он угрюмо (как указывает Горький) говорит о том, что ему трудно допустить существование человека, который смеет быть самим собой. Иными словами, Суслов изначально понимает необходимость притворяться и скрывать свое истинное лицо и готов с этой необходимостью мириться. Однако же в той самой сцене четвертого действия он перестает притворяться и, как говорится, срывает маску. Он честен, искренен. Он говорит то, что думает и чувствует, хотя, вероятно, понимает, что делать этого не следовало бы. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, потому что быть честным и искренним – правильно. Нас так учили. Но с другой стороны, попытку предстать перед людьми без маски эти самые люди расценивают как признак помешательства. То есть не одобряют. И носителем этого неодобрения, как я уже указал выше, является Марья Львовна, та самая, которая учебником провозглашена «интеллигенцией нового типа, передовой, революционной». Что же получается? Правильная и передовая Марья Львовна не одобряет искренности и не ценит честности, считая их признаками психического заболевания? А «неправильный и глубоко презираемый автором» Суслов отказывается от притворства и лицемерия, то есть, по этой логике, поступает плохо? Неувязочка, прямо скажем… Нет, не у Горького, разумеется, а у тех, кто пытается привить нашим школьникам интерес к его произведениям. Как-то топорно они это делают.
Но, разумеется, эти мысли – не для обсуждения в классе. С учениками можно было бы поговорить о многом другом, что затронуто персонажами пьесы: говорить ли детям правду и как достичь дружбы между детьми и родителями; является ли умение жить умением жить без помощи и поддержки; легко ли жить среди людей, которые все только стонут и жалуются; возможна ли дружба между мужчиной и женщиной…
Ну и, конечно же, при обсуждении «Дачников» можно и нужно говорить о любви, благо почвы для этого в тексте пьесы предостаточно. Тут и влюбленность Варвары Михайловны в Шалимова, и безответная любовь Рюмина, и дачный, скоротечный, но тем не менее страстный роман Юлии Филипповны, жены Суслова, с Замысловым, и юная любовь Сони и Зимина, и ничем не окончившиеся отношения Власа и Марьи Львовны. Одним словом, есть о чем поговорить. Было бы желание…
* * *
На обсуждении «Дачников» Сергей, как обычно, сидел рядом с Артемом. После занятий они всегда выходили вместе и шли на улицу курить, но сегодня Артем, едва поднявшись из-за длинного стола, сразу направился к входной двери. И вообще он выглядел как-то необычно, был рассеянным, и его выступление оказалось на удивление коротким и не таким подробным, как прежде.
– Ты куда? – окликнул его Сергей, догнав Артема на лестнице.
– Нужно Юру найти, он же главный по транспорту.
– Тебе нужна машина? Хочешь куда-то съездить?
– Мне нужны билеты на самолет. Я уезжаю.
Сергей оторопел.
– Как? Почему? Дома что-то случилось?
Мимо них по лестнице спускались Марина и Тимур.
– Тим, где твой надзиратель? – обратился к нему Артем.
– На ферму за овощами поехал, а что?
– Ничего, ладно, – Артем махнул рукой. – Как думаешь, насчет билетов к кому еще можно обратиться? К Назару? Или надо к главному боссу идти?
Услышав, что Артем собрался уезжать, Тимур ужасно расстроился. Марина давно прошла мимо, а он все стоял на лестничной площадке и уговаривал Артема не торопиться.