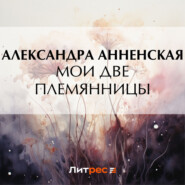По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести и рассказы для детей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх, Оличка, об тебе я и не думаю! – с полным убеждением отвечала Марья Осиповна. – Ты девочка… Что тебе надо? Читать, писать умеешь, привыкнешь около сестры к рукодельям-вот и хорошо! Много ли Анюта училась, а смотри, как все ее хвалят; да если бы ты на нее стала похожа, так лучшего ничего и не нужно!
– Оля, – раздался из другой комнаты голос Мити: – я забыл, что учитель говорил про «который». Поди сюда!
– Меня маменька не пускает! – надувши губки отвечала Оля.
– Чего не пускает! – вскричала Марья Осиповна. – Не пускаю шалить да повесничать с мальчишками, потому что это неприлично барышне, а если можешь помочь брату, так иди, помоги.
Обрадованная предлогом отделаться от чулка, Оля быстрым движением подбросила его под стул, и прежде чем мать открыла рот, чтобы заметить ей, как дурно такое небрежное отношение к работе, она уже очутилась подле брата.
Разрешив его недоумения насчет местоимения «который», она стала предлагать ему другие грамматические вопросы; они вместе припоминали объяснения учителя, вместе повторяли выученные молитвы и стихи. Потом, воспользовавшись тем, что мать и сестра ушли из соседней комнаты, они мало-помалу отложили книги в сторону и увлеклись мечтами о новой жизни, открывавшейся для Мити. Ни один из них никогда не был в школе; они не имели никакого понятия о школьных порядках, об отношениях учителей к ученикам и учеников друг к другу, – даже о том, каким именно премудростям обучаются в гимназии; но это открывало им тем больший простор для всевозможных предположений. Вечерняя прохлада сменила дневной жар, и через открытое окно вливался в комнату мягкий полусвет сумерек, а дети, облокотясь на подоконник, все говорили и мечтали, и в десятый раз повторяла Оля:
– А ты мне это будешь рассказывать? А мы это будем вместе? – и в десятый раз уверял Митя, что, конечно, она будет все знать, что до него касается, во всем принимать участие.
С тех пор, как Оля стала ходить и говорить, она была постоянным, неразлучным товарищем Мити. Они спали в одной комнате, под охраной одной и той же старушки няни, засыпали под одни и те же однообразные сказки этой старушки, проснувшись играли одними и теми же игрушками, даже шалости делали одинаковые и равно заслуживали добродушное ворчанье няни. Вместе вышли они в первый раз из улиц города и с радостным изумлением очутились среди зеленевшего простора полей; вместе, выучил их отец читать, писать и считать свои десять пальцев; вместе, крепко взявшись за руки, с одинаковым недоумением и горем, стояли они, два года тому назад, у гроба этого отца… До сих пор все у них было общее: и горести, и радости, и игры, и занятия. Только в последнее время мать начала все чаще и чаще ворчать на Ольгу за ее мальчишеские манеры, все чаще и чаще отзывать ее от братьев и присаживать за женские рукоделья. По правде сказать, девочка обращала мало внимания на новые требования матери. Она, подобно большинству детей, смотрела на материнские выговоры и наказания как на неизбежные невзгоды детской жизни и, чтобы избегнуть их, старалась об одном – пореже попадаться на глаза матери. Все же рассуждения о том, что она девочка, что поэтому ей следует быть кроткой, смирной, чисто одетой, гладко причесанной, любить вязанье, шить и исполнение разных мелких хозяйских обязанностей, – все эти рассуждения казались ей просто скучным ворчаньем, не производившим на нее ни малейшего впечатления.
Глава II
Экзамен Мити и его поступление в гимназию были такими важными событиями в семействе Марьи Осиповны, что целых десять дней все в доме были ими заняты и озабочены. Учитель, по просьбе матери, приходил каждый день и давал уроки одному Мите; прочим же детям строго воспрещалось входить в классную комнату, «чтобы не помешать». Чулок Оли свободно валялся под стульями и столами; никто не бранил за него девочку, не присаживал ее за работу: решено было, что она может помочь брату в его приготовлениях к экзамену, и потому ей позволялось оставаться с ним, но при этом мать беспрестанно повторяла:
– Да вы пустяков не болтайте! Митенька, учись, голубчик! Оля, ты смотри, не шали, помогай брату.
Анюте мать поручила наблюдать за занятиями детей, а сама старалась подольше удерживать младших вне дома, чтобы они не мешали. Впрочем, и младшие дети понимали, что в доме происходит нечто важное; они посматривали с каким-то не то любопытством, не то благоговением на Митю, и трехлетняя малютка Маша заговаривала шепотом даже в огороде, оставаясь одна с матерью. Утром перед экзаменом старая работница Фекла с таинственным видом подала Мите какой-то комочек, зашитый в грязную тряпичку и прикрепленный к шнурочку.
– Надень это, касатик, на шею, на голое тело, – убеждала она его:-это носят на счастье; мне одна старушка-странница дала.
Митя – бледный, взволнованный – взял дрожащею рукой ладанку и навесил ее себе на шею. Он знал, что это пустяки, что никакие тряпочки не помогут ему выдержать экзамен, а все же думалось «на всякий случай, может быть, и вправду пригодится».
Наконец экзамен выдержан, и выдержан вполне удовлетворительно: мальчик принят бесплатно приходящим учеником в гимназию.
Чтобы отпраздновать такое радостное событие, Марья Осиповна устроила закуску, на которую пригласила своих богатых родственников, Илью Фомича и Лизавету Сергеевну Потаниных, учителя, нескольких соседок и соседей. Все поздравляли ее с устройством судьбы старшего сына, все считали своим долгом, похвалив Митю за хорошо выдержанный экзамен, прочесть ему наставление о том, как он должен примерным прилежанием и поведением вознаградить мать за все ее заботы, как он должен помнить, что ему придется служить поддержкою и матери, и сестрам. Митя, молча и краснея, выслушивал и похвалы, и наставления, но в глубине души его шевелилось гордое чувство самоуверенности, когда он слышал, какие надежды возлагались на него. Оля все время вертелась около брата, ей и радостно было за него, и немножко обидно, что на нее никто не обращает внимания, что после Мити считают нужным толковать о будущем устройстве Пети, и даже Васи, а на нее никто не возлагает никаких надежд, о ее судьбе никто не говорит…
Митя начал ходить в гимназию. В первый день он был ошеломлен новостью классной обстановки, знакомством с товарищами, – знакомством, начинавшимся по большей части посредством потасовок или, по крайней мере, довольно чувствительных взаимных пинков, но на второй день он вернулся домой гордый и ликующий; он в первый раз надел гимназическую форму, и знакомый лавочник почтительно поклонился ему; товарищи, испытав силу кулаков его, охотно приняли его в свою среду, и трое завзятых шалунов даже предложили ему дружбу; учитель арифметики дважды похвалил его… Но это бы все еще ничего, – главную гордость мальчика составляло то, что в этот день он был в первый раз на уроке латинского языка и успел заучить несколько латинских слов. Учиться по-латыни!.. Это сразу поднимало его над всеми окружающими. Что такое арифметика, грамматика, география?.. Их хотя немножко да знает и маменька, и Анюта, и Оля, и маменькина кума, и даже дворников Тимоша, который с прошедшего года ходит в школу. Но по-латыни никто из них, даже сам важный дядюшка Илья Фомич, не понимает ни слова! Он скажет «rana coaxat» (лягушка квакает), – и они все вытаращат глаза и не будут знать, что это такое. Эх, жаль, что он не знает как закричать по-латыни: «Давайте обедать, я есть хочу»! Ну, да ничего, выучится, а пока и одной «rana» довольно.
Оля поджидала брата у ворот и, завидев его, тотчас бросилась к нему навстречу.
– Ну что, Митенька, – спрашивала она, следуя за ним во двор, в сени и в комнату: – хорошо ли было сегодня в гимназии? Что ты там делал?
– Какая ты странная, – несколько свысока отозвался Митя: – что делал?.. Конечно, учился. По-латыни начал.
– Ну, что же? Это интересно? Трудно?
– Конечно, очень трудно, да ничего, я выучусь.
– А у меня, Митя, какое горе, – жаловалась девочка, пока брат бережно развешивал на гвоздики новенькое пальто и такую же новенькую фуражку: – сегодня нас с Петей в первый раз учила Лизавета Ивановна. Она, должно быть, ничего не знает! Представь себе, заставляла нас все время читать да с книги списывать!.. Я у нее спрашиваю: «А арифметике и грамматике когда вы меня будете учить?» – а она говорит: «Пете это еще рано, он ни читать, ни писать не умеет, а с тобой отдельно заниматься мне некогда». Я сказала это маме, а мама говорит: «И за то благодари, что чему-нибудь учат: Лизавета Ивановна ведь денег с нас не берет, по доброте это делает». – Хорошо учит! Что меня учить читать да писать, когда я и без нее умею…
В другое время Митя, вероятно, выказал бы некоторое участие к огорчению сестры, но на этот раз он был так занят своими собственными успехами и желанием похвастать ими перед всеми домашними, что не мог думать ни о чем другом.
Едва дослушав сестру, он пошел к матери и там, при работнице Фекле, при Анюте и при Пете, торжественно произнес с десяток латинских слов. Анюта и Петя с некоторым уважением посмотрели на молодого ученого; Марья Осиповна осталась очень довольна такими быстрыми успехами сына, Фекла даже перекрестилась от умиления. Одна Оля была огорчена. Равнодушие брата сильно оскорбляло ее. Ей казалось, что именно теперь, когда он сам стал счастлив, он должен сочувствовать ей, стараться помогать.
После обеда, когда мальчик взялся за книги, чтобы готовить уроки к следующему дню, она опять начала с ним прежний разговор.
– Вот, Митя, – заметила она грустно: – всегда мы с тобой все учились вместе, а теперь ты учишься, у тебя новые книги, а меня никто не хочет учить!
– Ну, так что же? Ведь ты не можешь ходить со мной в гимназию, – ты не мальчик! Да и учиться тому, чему я учусь, тебе нельзя: это слишком трудно для девочек!
– Вот выдумал, – обиделась Оля: – да разве я до сих пор отставала от тебя в ученье? Еще учитель говорил, что я задачи скорее тебя решаю, и ошибок в диктовке делаю меньше.
– Это что, пустяки! Я теперь буду учиться по-латыни, это не про тебя писано… И вообще, Оля, ты лучше уйди, не мешай мне! Гимназические уроки не для девочек задаются, ты тут ничего не поймешь! Поди прочь!
Оля отошла от брата обиженная, оскорбленная до глубины души. Ей хотелось и прибить Митю, и выплакаться на просторе. Первое трудно было исполнить, так как Митя был сильнее ее, и потому она прибегла ко второму. Хлопая дверями, толкнув по дороге братишку, подвернувшегося под ноги, направилась она в огород. Там, за грядой гороха, было уединенное местечко, на котором она не раз выплакивала свои горести, сидя на небольшом камне. И теперь она побежала к тому же камню и, только усевшись на него, дала полную волю накопившимся слезам.
«Митя знать ее не хочет, Митя важничает перед ней! А давно ли все у них делалось вместе, сообща, давно ли она помогала ему готовить уроки, поправляла ошибки! Он гордится тем, что ходит в гимназию, что учится по-латыни, но разве она виновата, что ее не хотят учить! Он говорит, что его уроки слишком трудны для девочек, – неправда, не может быть, она не глупее его, хотя он и мальчик! И какое это, право, несчастие быть девочкой! Братья шалят и бегают, – мать ничего им не говорит, а ее бранит, когда она с ними играет; братья разорвут, перепачкают свою одежду, на них только поворчат, а ее за каждую дырочку мать наказывает, да еще зашивать заставляет! Господи, и отчего это я не родилась мальчиком, – рыдая, думала бедная девочка: – теперь ходила бы в гимназию вместе с Митей, училась бы всему, чему он учится, он не гнал бы меня от себя, не говорил бы, что его книги не про меня писаны! Это, положим, он врет, наверное врет! Только бы он мне показал эту латынь, я наверное выучу ее не хуже его! И все другое выучу. Хоть он и мальчик, а я не глупее его, я это ему покажу! Сходить разве к нему, попросить, чтобы он показал…»
При этой мысли слезы высохли на глазах девочки. Она раза два обошла огород, не решаясь войти в комнату, из которой ее так нелюбезно удалили, но наконец желание доказать брату на деле несправедливость его низкого мнения о ней взяло, верх над чувством мелкой обиды, и она твердыми шагами направилась в комнаты. Мите между тем несколько надоело сидеть одному над книгами; занятие латинским языком, правда, значительно возвышало его в собственных глазах, но заучиванье грамматических правил и целого десятка трудных слов было вовсе не интересно. Он обрадовался, увидя сестру, с которой можно перемолвиться словечком в промежутках между учением.
– Митя, – вкрадчивым голосом попросила Оля: – дай мне посмотреть, что ты учишь, мне очень интересно.
– Да смотри, пожалуй; видишь – латинская книга.
– Какие буквы! Совсем не такие, как по-русски! Трудно их заучить?
– Нет, не очень. Нас учитель только один час учил читать, а потом сразу стал говорить грамматику да заставлять переводить. И к завтрему – вон какой кусина задал!
– Ну, а скажи-ка мне буквы: может быть, я пойму!
Учить прилежную, понятливую ученицу, которая притом позволяла и кричать на себя, было несомненно веселее, чем самому долбить, и потому Митя, забыв свои собственные слова, что латынь недоступна для девочек, показал Оле произношение всех букв, заставил ее прочесть несколько строк и не мешал ей учить вместе с собой урок, заданный к следующему дню. Учиться вместе было и легче, и веселее, чем в одиночку, дети давно уже испытали это, и теперь Митя снова убедился в том же. После латыни ему нужно было еще выучить наизусть и суметь написать без ошибок небольшое стихотворение по-русски, и эта работа была окончена скоро, без скуки. Прежде наступления сумерек дети уже бежали играть в огород, по прежнему дружные, готовые все делать сообща, и Митя забыл, что Оля девочка, что ей недоступно многое, возможное для него, мальчика. С этих пор всякий раз, как Митя принимался готовить уроки, Оля усаживалась подле него и старательно выучивала все, что ему было задано. Девочка не рассуждала, нужны ли для нее эти знания, пригодятся ли они ей когда-нибудь; она видела одно, что этому учат мальчиков, что все это будет знать Митя, и не хотела ни на шаг отставать от него. Митя очень скоро не только помирился с намерением сестры учиться с ним вместе, но даже радовался этому: приготовлять уроки вдвоем было веселее, чем одному, а повторяя сестре объяснения и рассказы учителей, он мог принимать важный, наставительный тон, который очень ему нравился. Когда Оля объявила матери, что не станет больше брать уроков у Лизаветы Ивановны, а будет заниматься вместе с Митей, Марья Осиповна назвала это глупостью:
– Не хочешь у Лизаветы Ивановны учиться – пожалуй, не учись, – сказала она; – читать, писать, считать умеешь, молитвы знаешь, с тебя и довольно, а к брату нечего лезть, мешать ему: ты не можешь тому учиться, чему он учится, с тобой он только шалить будет!
– Да нет же, мама, – уверяла Оля: – право, я ему не мешаю, хоть у него самого спросите.
– Глупые это все затеи, ничего больше! Этакая ты уже большая девчонка, и ничем порядочным ты заняться не хочешь… Брала бы пример с Анюты! Тебе лучше около нее быть, а не с мальчиками, – от нее больше хорошего научишься!..
Оля знала, что спорить с матерью бесполезно; она вздохнула и заплакала. Но она знала также, что хотя мать часто любила поворчать, иногда под сердитый час не прочь была и прибить, но в сущности не строго следила за детьми и по большей части позволяла им делать, что они хотели, только бы не шумели, не рвали и не пачкали одежды, вообще не попадались ни в каких шалостях. Таким образом, несмотря на запрещение матери, Оле всякий день удавалось часа на два на три улизнуть из-под надзора и заняться вместе с Митей. Заставая их вдвоем с братом за книгами, Марья Осиповна молчала, видя, что Митенька учится прилежно; иногда же, когда она бывала в дурном расположении духа или слышала, что Митя не сам долбит, а что-нибудь объясняет сестре, она разражалась бранью на девочку, уводила ее вон из комнаты, засаживала за работу, запирала в чулан. Ольга плакала и злилась, а на следующий день повторяла ту же вину, рассчитывая, что «сегодня маменька не сердитая».
Чтобы ни в чем не отставать от брата, ей надобно было одной проделывать те упражнения, какие он исполнял в гимназии во время классов. Это также приходилось делать почти тайком, заниматься урывками, употреблять разные уловки, чтобы избежать упреков и наказаний.
Марья Осиповна осталась после смерти мужа с шестерыми детьми и самыми ограниченными средствами к жизни. Много нужно ей было и заботиться, и трудиться, чтобы прокормить всю эту семью, и она не жалела ни забот, ни трудов. Сама она няньчила младших детей, сама и шила, и мыла на всех, и помогала Фекле стряпать, и находила еще время заработать несколько рублей в месяц вязаньем на спицах теплых платков и шарфов. Анюте было уже 12 лет когда умер отец. Она видела и понимала, как трудно матери справляться с такой большой семьей и, по мере сил, она старалась помогать ей. Всегда тихая, благоразумная и прилежная, она стала еще более серьезна и трудолюбива. Мать достала ей в одном магазине заказ вышивок по канве, и с тех пор она почти все дни проводила за пяльцами, радуясь, что сама может зарабатывать деньги на свой скромный туалет.
– Золотые пальчики! – говорили родные и знакомые, любуясь на розы и ландыши, которые складывались в изящные букеты под искусными ручками бледной, молчаливой девочки, и мать с радостью и умилением поглядывала на свою старшую дочь. Естественно, ей хотелось, чтобы и Оля сколько-нибудь походила на сестру, чтобы и она, по мере сил, являлась в доме помощницей, а не помехой. Зарабатывать деньги она еще не могла, но она должна была приучаться к рукодельям и затем исполнять разные мелкие поручения.
«Оля! – слышалось с утра, – принеси воды мыть братьев!» – «Оля, подай на стол чашки!» – «Оля, подмети здесь пол!» – «Оля, беги скорей в лавочку, возьми на две копейки соли!»
– «Ах ты Господи! Васенька выбежал на улицу! Ольга приведи его скорей домой».
Оля исполняла все приказания, хотя не с особенным удовольствием, но беспрекословно; затем ей хотелось или поиграть с детьми, или написать тот перевод, который накануне Митя делал в классе, но едва бралась она за игрушку или за перо, как около нее раздавался голос матери:
– Ольга, это ты опять с утра ничего не делаешь! Ах, наказанье мое эта девчонка! Да постыдись ты, сударыня! Смотри, сестрица сколько уже нашила, а ты что? Только бы шалить! Бери сейчас свою работу, садись подле Анюты и работай!
– Оля, – раздался из другой комнаты голос Мити: – я забыл, что учитель говорил про «который». Поди сюда!
– Меня маменька не пускает! – надувши губки отвечала Оля.
– Чего не пускает! – вскричала Марья Осиповна. – Не пускаю шалить да повесничать с мальчишками, потому что это неприлично барышне, а если можешь помочь брату, так иди, помоги.
Обрадованная предлогом отделаться от чулка, Оля быстрым движением подбросила его под стул, и прежде чем мать открыла рот, чтобы заметить ей, как дурно такое небрежное отношение к работе, она уже очутилась подле брата.
Разрешив его недоумения насчет местоимения «который», она стала предлагать ему другие грамматические вопросы; они вместе припоминали объяснения учителя, вместе повторяли выученные молитвы и стихи. Потом, воспользовавшись тем, что мать и сестра ушли из соседней комнаты, они мало-помалу отложили книги в сторону и увлеклись мечтами о новой жизни, открывавшейся для Мити. Ни один из них никогда не был в школе; они не имели никакого понятия о школьных порядках, об отношениях учителей к ученикам и учеников друг к другу, – даже о том, каким именно премудростям обучаются в гимназии; но это открывало им тем больший простор для всевозможных предположений. Вечерняя прохлада сменила дневной жар, и через открытое окно вливался в комнату мягкий полусвет сумерек, а дети, облокотясь на подоконник, все говорили и мечтали, и в десятый раз повторяла Оля:
– А ты мне это будешь рассказывать? А мы это будем вместе? – и в десятый раз уверял Митя, что, конечно, она будет все знать, что до него касается, во всем принимать участие.
С тех пор, как Оля стала ходить и говорить, она была постоянным, неразлучным товарищем Мити. Они спали в одной комнате, под охраной одной и той же старушки няни, засыпали под одни и те же однообразные сказки этой старушки, проснувшись играли одними и теми же игрушками, даже шалости делали одинаковые и равно заслуживали добродушное ворчанье няни. Вместе вышли они в первый раз из улиц города и с радостным изумлением очутились среди зеленевшего простора полей; вместе, выучил их отец читать, писать и считать свои десять пальцев; вместе, крепко взявшись за руки, с одинаковым недоумением и горем, стояли они, два года тому назад, у гроба этого отца… До сих пор все у них было общее: и горести, и радости, и игры, и занятия. Только в последнее время мать начала все чаще и чаще ворчать на Ольгу за ее мальчишеские манеры, все чаще и чаще отзывать ее от братьев и присаживать за женские рукоделья. По правде сказать, девочка обращала мало внимания на новые требования матери. Она, подобно большинству детей, смотрела на материнские выговоры и наказания как на неизбежные невзгоды детской жизни и, чтобы избегнуть их, старалась об одном – пореже попадаться на глаза матери. Все же рассуждения о том, что она девочка, что поэтому ей следует быть кроткой, смирной, чисто одетой, гладко причесанной, любить вязанье, шить и исполнение разных мелких хозяйских обязанностей, – все эти рассуждения казались ей просто скучным ворчаньем, не производившим на нее ни малейшего впечатления.
Глава II
Экзамен Мити и его поступление в гимназию были такими важными событиями в семействе Марьи Осиповны, что целых десять дней все в доме были ими заняты и озабочены. Учитель, по просьбе матери, приходил каждый день и давал уроки одному Мите; прочим же детям строго воспрещалось входить в классную комнату, «чтобы не помешать». Чулок Оли свободно валялся под стульями и столами; никто не бранил за него девочку, не присаживал ее за работу: решено было, что она может помочь брату в его приготовлениях к экзамену, и потому ей позволялось оставаться с ним, но при этом мать беспрестанно повторяла:
– Да вы пустяков не болтайте! Митенька, учись, голубчик! Оля, ты смотри, не шали, помогай брату.
Анюте мать поручила наблюдать за занятиями детей, а сама старалась подольше удерживать младших вне дома, чтобы они не мешали. Впрочем, и младшие дети понимали, что в доме происходит нечто важное; они посматривали с каким-то не то любопытством, не то благоговением на Митю, и трехлетняя малютка Маша заговаривала шепотом даже в огороде, оставаясь одна с матерью. Утром перед экзаменом старая работница Фекла с таинственным видом подала Мите какой-то комочек, зашитый в грязную тряпичку и прикрепленный к шнурочку.
– Надень это, касатик, на шею, на голое тело, – убеждала она его:-это носят на счастье; мне одна старушка-странница дала.
Митя – бледный, взволнованный – взял дрожащею рукой ладанку и навесил ее себе на шею. Он знал, что это пустяки, что никакие тряпочки не помогут ему выдержать экзамен, а все же думалось «на всякий случай, может быть, и вправду пригодится».
Наконец экзамен выдержан, и выдержан вполне удовлетворительно: мальчик принят бесплатно приходящим учеником в гимназию.
Чтобы отпраздновать такое радостное событие, Марья Осиповна устроила закуску, на которую пригласила своих богатых родственников, Илью Фомича и Лизавету Сергеевну Потаниных, учителя, нескольких соседок и соседей. Все поздравляли ее с устройством судьбы старшего сына, все считали своим долгом, похвалив Митю за хорошо выдержанный экзамен, прочесть ему наставление о том, как он должен примерным прилежанием и поведением вознаградить мать за все ее заботы, как он должен помнить, что ему придется служить поддержкою и матери, и сестрам. Митя, молча и краснея, выслушивал и похвалы, и наставления, но в глубине души его шевелилось гордое чувство самоуверенности, когда он слышал, какие надежды возлагались на него. Оля все время вертелась около брата, ей и радостно было за него, и немножко обидно, что на нее никто не обращает внимания, что после Мити считают нужным толковать о будущем устройстве Пети, и даже Васи, а на нее никто не возлагает никаких надежд, о ее судьбе никто не говорит…
Митя начал ходить в гимназию. В первый день он был ошеломлен новостью классной обстановки, знакомством с товарищами, – знакомством, начинавшимся по большей части посредством потасовок или, по крайней мере, довольно чувствительных взаимных пинков, но на второй день он вернулся домой гордый и ликующий; он в первый раз надел гимназическую форму, и знакомый лавочник почтительно поклонился ему; товарищи, испытав силу кулаков его, охотно приняли его в свою среду, и трое завзятых шалунов даже предложили ему дружбу; учитель арифметики дважды похвалил его… Но это бы все еще ничего, – главную гордость мальчика составляло то, что в этот день он был в первый раз на уроке латинского языка и успел заучить несколько латинских слов. Учиться по-латыни!.. Это сразу поднимало его над всеми окружающими. Что такое арифметика, грамматика, география?.. Их хотя немножко да знает и маменька, и Анюта, и Оля, и маменькина кума, и даже дворников Тимоша, который с прошедшего года ходит в школу. Но по-латыни никто из них, даже сам важный дядюшка Илья Фомич, не понимает ни слова! Он скажет «rana coaxat» (лягушка квакает), – и они все вытаращат глаза и не будут знать, что это такое. Эх, жаль, что он не знает как закричать по-латыни: «Давайте обедать, я есть хочу»! Ну, да ничего, выучится, а пока и одной «rana» довольно.
Оля поджидала брата у ворот и, завидев его, тотчас бросилась к нему навстречу.
– Ну что, Митенька, – спрашивала она, следуя за ним во двор, в сени и в комнату: – хорошо ли было сегодня в гимназии? Что ты там делал?
– Какая ты странная, – несколько свысока отозвался Митя: – что делал?.. Конечно, учился. По-латыни начал.
– Ну, что же? Это интересно? Трудно?
– Конечно, очень трудно, да ничего, я выучусь.
– А у меня, Митя, какое горе, – жаловалась девочка, пока брат бережно развешивал на гвоздики новенькое пальто и такую же новенькую фуражку: – сегодня нас с Петей в первый раз учила Лизавета Ивановна. Она, должно быть, ничего не знает! Представь себе, заставляла нас все время читать да с книги списывать!.. Я у нее спрашиваю: «А арифметике и грамматике когда вы меня будете учить?» – а она говорит: «Пете это еще рано, он ни читать, ни писать не умеет, а с тобой отдельно заниматься мне некогда». Я сказала это маме, а мама говорит: «И за то благодари, что чему-нибудь учат: Лизавета Ивановна ведь денег с нас не берет, по доброте это делает». – Хорошо учит! Что меня учить читать да писать, когда я и без нее умею…
В другое время Митя, вероятно, выказал бы некоторое участие к огорчению сестры, но на этот раз он был так занят своими собственными успехами и желанием похвастать ими перед всеми домашними, что не мог думать ни о чем другом.
Едва дослушав сестру, он пошел к матери и там, при работнице Фекле, при Анюте и при Пете, торжественно произнес с десяток латинских слов. Анюта и Петя с некоторым уважением посмотрели на молодого ученого; Марья Осиповна осталась очень довольна такими быстрыми успехами сына, Фекла даже перекрестилась от умиления. Одна Оля была огорчена. Равнодушие брата сильно оскорбляло ее. Ей казалось, что именно теперь, когда он сам стал счастлив, он должен сочувствовать ей, стараться помогать.
После обеда, когда мальчик взялся за книги, чтобы готовить уроки к следующему дню, она опять начала с ним прежний разговор.
– Вот, Митя, – заметила она грустно: – всегда мы с тобой все учились вместе, а теперь ты учишься, у тебя новые книги, а меня никто не хочет учить!
– Ну, так что же? Ведь ты не можешь ходить со мной в гимназию, – ты не мальчик! Да и учиться тому, чему я учусь, тебе нельзя: это слишком трудно для девочек!
– Вот выдумал, – обиделась Оля: – да разве я до сих пор отставала от тебя в ученье? Еще учитель говорил, что я задачи скорее тебя решаю, и ошибок в диктовке делаю меньше.
– Это что, пустяки! Я теперь буду учиться по-латыни, это не про тебя писано… И вообще, Оля, ты лучше уйди, не мешай мне! Гимназические уроки не для девочек задаются, ты тут ничего не поймешь! Поди прочь!
Оля отошла от брата обиженная, оскорбленная до глубины души. Ей хотелось и прибить Митю, и выплакаться на просторе. Первое трудно было исполнить, так как Митя был сильнее ее, и потому она прибегла ко второму. Хлопая дверями, толкнув по дороге братишку, подвернувшегося под ноги, направилась она в огород. Там, за грядой гороха, было уединенное местечко, на котором она не раз выплакивала свои горести, сидя на небольшом камне. И теперь она побежала к тому же камню и, только усевшись на него, дала полную волю накопившимся слезам.
«Митя знать ее не хочет, Митя важничает перед ней! А давно ли все у них делалось вместе, сообща, давно ли она помогала ему готовить уроки, поправляла ошибки! Он гордится тем, что ходит в гимназию, что учится по-латыни, но разве она виновата, что ее не хотят учить! Он говорит, что его уроки слишком трудны для девочек, – неправда, не может быть, она не глупее его, хотя он и мальчик! И какое это, право, несчастие быть девочкой! Братья шалят и бегают, – мать ничего им не говорит, а ее бранит, когда она с ними играет; братья разорвут, перепачкают свою одежду, на них только поворчат, а ее за каждую дырочку мать наказывает, да еще зашивать заставляет! Господи, и отчего это я не родилась мальчиком, – рыдая, думала бедная девочка: – теперь ходила бы в гимназию вместе с Митей, училась бы всему, чему он учится, он не гнал бы меня от себя, не говорил бы, что его книги не про меня писаны! Это, положим, он врет, наверное врет! Только бы он мне показал эту латынь, я наверное выучу ее не хуже его! И все другое выучу. Хоть он и мальчик, а я не глупее его, я это ему покажу! Сходить разве к нему, попросить, чтобы он показал…»
При этой мысли слезы высохли на глазах девочки. Она раза два обошла огород, не решаясь войти в комнату, из которой ее так нелюбезно удалили, но наконец желание доказать брату на деле несправедливость его низкого мнения о ней взяло, верх над чувством мелкой обиды, и она твердыми шагами направилась в комнаты. Мите между тем несколько надоело сидеть одному над книгами; занятие латинским языком, правда, значительно возвышало его в собственных глазах, но заучиванье грамматических правил и целого десятка трудных слов было вовсе не интересно. Он обрадовался, увидя сестру, с которой можно перемолвиться словечком в промежутках между учением.
– Митя, – вкрадчивым голосом попросила Оля: – дай мне посмотреть, что ты учишь, мне очень интересно.
– Да смотри, пожалуй; видишь – латинская книга.
– Какие буквы! Совсем не такие, как по-русски! Трудно их заучить?
– Нет, не очень. Нас учитель только один час учил читать, а потом сразу стал говорить грамматику да заставлять переводить. И к завтрему – вон какой кусина задал!
– Ну, а скажи-ка мне буквы: может быть, я пойму!
Учить прилежную, понятливую ученицу, которая притом позволяла и кричать на себя, было несомненно веселее, чем самому долбить, и потому Митя, забыв свои собственные слова, что латынь недоступна для девочек, показал Оле произношение всех букв, заставил ее прочесть несколько строк и не мешал ей учить вместе с собой урок, заданный к следующему дню. Учиться вместе было и легче, и веселее, чем в одиночку, дети давно уже испытали это, и теперь Митя снова убедился в том же. После латыни ему нужно было еще выучить наизусть и суметь написать без ошибок небольшое стихотворение по-русски, и эта работа была окончена скоро, без скуки. Прежде наступления сумерек дети уже бежали играть в огород, по прежнему дружные, готовые все делать сообща, и Митя забыл, что Оля девочка, что ей недоступно многое, возможное для него, мальчика. С этих пор всякий раз, как Митя принимался готовить уроки, Оля усаживалась подле него и старательно выучивала все, что ему было задано. Девочка не рассуждала, нужны ли для нее эти знания, пригодятся ли они ей когда-нибудь; она видела одно, что этому учат мальчиков, что все это будет знать Митя, и не хотела ни на шаг отставать от него. Митя очень скоро не только помирился с намерением сестры учиться с ним вместе, но даже радовался этому: приготовлять уроки вдвоем было веселее, чем одному, а повторяя сестре объяснения и рассказы учителей, он мог принимать важный, наставительный тон, который очень ему нравился. Когда Оля объявила матери, что не станет больше брать уроков у Лизаветы Ивановны, а будет заниматься вместе с Митей, Марья Осиповна назвала это глупостью:
– Не хочешь у Лизаветы Ивановны учиться – пожалуй, не учись, – сказала она; – читать, писать, считать умеешь, молитвы знаешь, с тебя и довольно, а к брату нечего лезть, мешать ему: ты не можешь тому учиться, чему он учится, с тобой он только шалить будет!
– Да нет же, мама, – уверяла Оля: – право, я ему не мешаю, хоть у него самого спросите.
– Глупые это все затеи, ничего больше! Этакая ты уже большая девчонка, и ничем порядочным ты заняться не хочешь… Брала бы пример с Анюты! Тебе лучше около нее быть, а не с мальчиками, – от нее больше хорошего научишься!..
Оля знала, что спорить с матерью бесполезно; она вздохнула и заплакала. Но она знала также, что хотя мать часто любила поворчать, иногда под сердитый час не прочь была и прибить, но в сущности не строго следила за детьми и по большей части позволяла им делать, что они хотели, только бы не шумели, не рвали и не пачкали одежды, вообще не попадались ни в каких шалостях. Таким образом, несмотря на запрещение матери, Оле всякий день удавалось часа на два на три улизнуть из-под надзора и заняться вместе с Митей. Заставая их вдвоем с братом за книгами, Марья Осиповна молчала, видя, что Митенька учится прилежно; иногда же, когда она бывала в дурном расположении духа или слышала, что Митя не сам долбит, а что-нибудь объясняет сестре, она разражалась бранью на девочку, уводила ее вон из комнаты, засаживала за работу, запирала в чулан. Ольга плакала и злилась, а на следующий день повторяла ту же вину, рассчитывая, что «сегодня маменька не сердитая».
Чтобы ни в чем не отставать от брата, ей надобно было одной проделывать те упражнения, какие он исполнял в гимназии во время классов. Это также приходилось делать почти тайком, заниматься урывками, употреблять разные уловки, чтобы избежать упреков и наказаний.
Марья Осиповна осталась после смерти мужа с шестерыми детьми и самыми ограниченными средствами к жизни. Много нужно ей было и заботиться, и трудиться, чтобы прокормить всю эту семью, и она не жалела ни забот, ни трудов. Сама она няньчила младших детей, сама и шила, и мыла на всех, и помогала Фекле стряпать, и находила еще время заработать несколько рублей в месяц вязаньем на спицах теплых платков и шарфов. Анюте было уже 12 лет когда умер отец. Она видела и понимала, как трудно матери справляться с такой большой семьей и, по мере сил, она старалась помогать ей. Всегда тихая, благоразумная и прилежная, она стала еще более серьезна и трудолюбива. Мать достала ей в одном магазине заказ вышивок по канве, и с тех пор она почти все дни проводила за пяльцами, радуясь, что сама может зарабатывать деньги на свой скромный туалет.
– Золотые пальчики! – говорили родные и знакомые, любуясь на розы и ландыши, которые складывались в изящные букеты под искусными ручками бледной, молчаливой девочки, и мать с радостью и умилением поглядывала на свою старшую дочь. Естественно, ей хотелось, чтобы и Оля сколько-нибудь походила на сестру, чтобы и она, по мере сил, являлась в доме помощницей, а не помехой. Зарабатывать деньги она еще не могла, но она должна была приучаться к рукодельям и затем исполнять разные мелкие поручения.
«Оля! – слышалось с утра, – принеси воды мыть братьев!» – «Оля, подай на стол чашки!» – «Оля, подмети здесь пол!» – «Оля, беги скорей в лавочку, возьми на две копейки соли!»
– «Ах ты Господи! Васенька выбежал на улицу! Ольга приведи его скорей домой».
Оля исполняла все приказания, хотя не с особенным удовольствием, но беспрекословно; затем ей хотелось или поиграть с детьми, или написать тот перевод, который накануне Митя делал в классе, но едва бралась она за игрушку или за перо, как около нее раздавался голос матери:
– Ольга, это ты опять с утра ничего не делаешь! Ах, наказанье мое эта девчонка! Да постыдись ты, сударыня! Смотри, сестрица сколько уже нашила, а ты что? Только бы шалить! Бери сейчас свою работу, садись подле Анюты и работай!