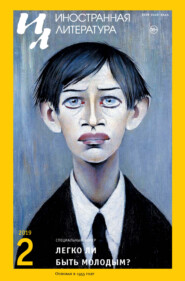По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вирджиния Вулф: «моменты бытия»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кроме того, у Беллов ожидаются дети. «Дети», впрочем, есть и у Вирджинии: за младшим братом – вялым, медлительным, безалаберным, инфантильным – нужен, что называется, «глаз да глаз». Присматривает, впрочем, и брат за сестрой: ведет подробный дневник происходящего на Фицрой-сквер.
Четверги у Адриана и Вирджинии (занявшей комнату на третьем этаже, куда она перевезла с Гордон-сквер тысячи книг, пианолу, светло-зеленый ковер, а заодно – пыль и табачный дым) меж тем продолжаются, однако состав постоянных гостей постепенно меняется: «блумсбериек» становится едва ли не больше, чем блумсберийцев. Вирджинии это определенно нравилось, что, впрочем, не мешало хозяйке дома, в свойственной ей несколько развязной манере, отпускать вновь прибывшей на Фицрой-сквер гостье комплименты довольно сомнительного свойства. Вот как она, со слов Адриана, «приветствовала» свою знакомую мисс Коул, впервые попавшую на «четверг» в июле 1909 года:
«Вы ведь всегда одеваетесь столь изысканно, мисс Коул. У вас такой оригинальный вид, в вас что-то есть от морской раковины. Когда вы появляетесь в своих несравненных нарядах среди наших грязных сапог и дымящихся трубок, выглядите вы тем более утонченно».
Общаясь по преимуществу с представительницами прекрасного пола – с Мэдж Воган, Вайолет, Джанет Кейс, – Вирджиния, надо полагать, впервые задумывалась о специфически женском восприятии реальности, о том, чему лет двадцать спустя она посвятит «Свою комнату».
На общем «феминистском» фоне «женских четвергов» выделяются две участницы. Во-первых, Кэтрин Кокс, которую называли Ка-Кокс, а еще – «олицетворением юной женственности». Умная, рассудительная, не слишком эмоциональная молодая особа, Ка-Кокс входила в общество так называемых неоязычников.
Как и блумсберийцы, неоязычники ратовали за свободу нравов, за атеизм (отсюда и название их движения), за эмансипированность женщин – и мужчин тоже. Вместе с тем, в отличие от питомцев Мура, неоязычники были приверженцами социально активной жизненной позиции, ярыми противниками «расслабленных» эстетов и декадентов и заядлыми спортсменами. Неоязычников отличали стремление к простой, незамысловатой, «здоровой» жизни, социалистические (фабианские) убеждения, неприкрытый антисемитизм и гетеросексуальность (в отличие от гомосексуализма блумсберийцев). Через Ка-Кокс, посещавшую блумсберийский клуб «По пятницам», Вирджиния познакомилась и подружилась с одним из самых блестящих неоязычников, уже упоминавшимся Рупертом Бруком, на дух не переносившим эстетства и отрешенности блумсберийцев.
«Он ходил исключительно босиком, – вспоминала Вирджиния, – с отвращением относился к табаку и мясу, жил и спал под открытым небом, купался в ледяной воде, придерживался рыбной диеты и терпеть не мог книг и книгочеев».
Зато любил живую природу, которую описывал с исключительной поэтической искренностью:
Весь день смеются воды под ветрами,
Согретые небесными лучами,
Но вот мороз движение сковал
И пляску волн и блеском безмятежным
Холодной бледной ночи осиял
Покой великий, ровный и безбрежный[29 - Руперт Брук. «Мертвые». Перевод Е.Тарасова.].
И, во-вторых, леди Оттолайн Моррелл, покровительница искусств, эксцентричная аристократка с пронзительным голосом, бирюзовыми глазами, хищным носом, экзотическими туалетами и манерами, «с головой Медузы, золотыми подвесками в ушах, волочащимся по земле подолом, мириадами лисьих хвостов»[30 - Из письма В.Вулф Литтону Стрэчи от 16 декабря 1912 г.]. И с весьма заносчивым нравом. Чем-то леди Моррелл – очень высокая, статная, величественная, говорившая, растягивая слова, вдохнувшая в «четверги» не свойственный им светский лоск, – напоминала герцогиню из «Алисы в стране чудес».
«Нас всех занесло в этот немыслимый круговорот, – вспоминала Вирджиния про салон леди Морррелл на Бедфорд-сквер. – Кого там только не было: и зловещий Огастес Джон в тесных черных ботинках и бархатном сюртуке. И Уинстон Черчилль, румяный, весь в золотом кружеве, по пути в Букингемский дворец. И Реймонд Асквит, искрящийся остроумными репликами…»
Салон леди Оттолайн посещался, как сказали бы в советское время, «выдающимися деятелями искусства», и почти у всех был с хозяйкой салона роман. На Бедфорд-сквер бывали и известные художники Огастес Джон и Дункан Грант, и искусствоведы (Роджер Фрай), и поэты Уильям Батлер Йейтс и Томас Стернз Элиот, и философ Бертран Рассел, и модные прозаики «новой волны» – Олдос Хаксли, Дэвид Герберт Лоуренс. Совсем еще юный тогда Лоуренс жаловался, что сходит с ума от ежевечерних словесных прений, нескончаемых бесед «ни о чем». И тот и другой выведут леди Моррелл в своих книгах; Лоуренс – во «Влюбленных женщинах» в образе Гермионы Роддис, где леди Моррелл предстанет карикатурой на капризную, мстительную светскую даму, увлеченную великими людьми; Хаксли – в своем первом романе «Желтый кром». Бывает у «герцогини» на Бедфорд-сквер, а также в литературном салоне ее мужа, члена Парламента сэра Филипа Моррела в имении Гарсингтон-мэнор, в нескольких милях от Оксфорда, и Вирджиния.
Сделавшись единоличной хозяйкой блумсберийского салона, Вирджиния изменилась. Появились уверенность в себе, острый язык, всегдашняя готовность рассуждать на заповедные темы и комментировать – изящно, остроумно, язвительно – реплики собеседников. И, как и раньше, – фантазировать, приходить в возбуждение от собственных монологов.
«В процессе речи ее вдруг охватывало волнение, и срывался, как у школьницы, голос. И в этом надтреснутом, дрожащем голосе ощущались чувство юмора и радость жизни», – вспоминал Дэвид Гарнетт.
Изменилась и как женщина: куда только девались угловатость, молчаливость, робость «синего чулка» – и бесцеремонность, робостью и стеснением вызванная. Этой метаморфозы мужчины не могли не заметить и не оценить. В том числе и мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, как Литтон Стрэчи, о чем мы уже упоминали.
Двадцатипятилетняя Вирджиния живет бурной светской жизнью, она постоянный слушатель «Аиды», «Электры» и опер Вагнера в Куинз-холл, зритель «Орфея и Эвридики» в «Друри-Лейн», участник не только литературных салонов, «четвергов» и «пятниц» на Гордон-сквер, «где не было ничего, чего нельзя было бы сказать, ничего, чего нельзя было бы сделать», но и костюмированных балов вроде проходящего в Ботаническом саду «Пира художников» (“Artists’ Revels”), где, распустив волосы и облачившись в длинные одежды, она изображает Клеопатру. И изображает очень достоверно: тонкие, чувственные губы, пристальный взгляд больших печальных глаз, темные ресницы, прелестный прямой нос.
Кто в это время за ней только не ухаживает, причем с самыми серьезными намерениями! В ее «гареме», как шутила Ванесса, были и годящийся ей в отцы, в прошлом приятель ее матери, поэт и ученый-классик, человек яркий, талантливый, но довольно нелепый, – Уолтер Хэдлам. И художники – Уолтер Лэм и Дункан Грант. Живописи Грант учился в Париже, там Вирджиния с ним и познакомилась; на Фицрой-сквер у Гранта была своя мастерская, и они вместе с жившим у него Мейнардом Кейнсом запросто, «по-соседски» заходили к Стивенам в любое время дня и ночи. Про Уолтера Лэма, отличавшегося редким занудством, елейными манерами и писавшего Вирджинии многостраничные письма, она отзывалась не слишком лицеприятно.
«О чем бы он ни говорил, – записывает она в дневнике 10 января 1915 года, – всё приобретает какой-то неприглядный, невыразительный, тусклый вид; одного его голоса достаточно, чтобы загасить самые пламенные стихи на свете. Впрочем, пламенных стихов он не читает…»
Делают ей предложение (и получают отказ) и куда более блестящие молодые люди, чем Уолтер Лэм. Такие, как Эдвард Хилтон Янг, сын известного эллиниста сэра Джорджа Янга, в будущем известный политик. А еще будущий дипломат, также классик по образованию, высокомерный и алчный Сидни Уотерлоу; в своем дневнике и он тоже, вслед за Литтоном Стрэчи и Леонардом Вулфом, в нескольких словах описал разницу между Ванессой и Вирджинией:
«Ванесса холодна, цинична, артистична. Вирджиния гораздо эмоциональней, жизнь интересует ее больше, чем красота».
Увивался за ней одно время и дамский угодник Клайв Белл, «радужный Белл», как она его называла. Зимой и весной 1908 года, после рождения первого сына Джулиана, Беллы жили вместе с Вирджинией в Сент-Айвз, и, спасаясь от детского крика и неизбежных в такое время семейных сцен и хлопот по хозяйству, Клайв отправлялся с золовкой на длинные, многочасовые прогулки. Тогда-то у него с Вирджинией и установилась особая интеллектуальная близость («Мы с Беллом проговорили о природе добра до часа ночи»). Но только интеллектуальная. Шансов добиться успеха у радужного Белла было немного. Во-первых, Вирджиния была с детства предана старшей сестре, которая, надо признать, одно время, когда намечался этот внутрисемейный любовный треугольник, даже ревновала мужа к сестре – пока не отвлеклась на собственный роман с Роджером Фраем. Предана, при этом, очень возможно, завидовала ее семейному счастью и благосостоянию, и в то же время боялась это счастье нарушить. А, во-вторых, сексуальная сторона жизни Вирджинию уже тогда занимала не слишком; в мужчинах, которые за ней ухаживали, ее интересовало то, что выше, а не ниже пояса. И увлекалась она (сознательно или бессознательно) теми мужчинами, которые, подобно Литтону Стрэчи, предлагали ей свою дружбу, а не любовь, не домогались ее как женщины. Женщины столь же красивой, сколь и недоступной. Вот как описывает ее в те годы одна из посетительниц четвергов на Фицрой-сквер 29, ее приятельница Розамунд Леманн:
«Она была необычайно красива – аскетичной, интеллектуальной красотой: высокая, худая, строгие черты длинного, узкого лица готической мадонны, большие печальные глаза под изящно приспущенными веками. Особым очарованием обладал ее голос – легкий, музыкальный, с хрипотцой. Когда она протягивала к камину свои тонкие пальцы, то в отсветах пламени они были такими прозрачными, что казалось, будто угадываешь под кожей длинные, хрупкие кости».
Красива и озорна. Увлекалась (как, впрочем, и другие блумсберийцы) всевозможными играми – на игровой характер блумсберийского сообщества обращали внимание многие критики и историки. У нее, у Ванессы, Клайва Белла, Сэксона Сидни-Тёрнера и Адриана было, помимо четверговых дискуссий, «Клуба по пятницам» и «Общества чтения пьес», еще несколько любимых игр. Одна – в слова: называлась буква, и выигрывал тот, кто за полминуты (время фиксировал дотошный Клайв) напишет больше всего слов. Другая – «роман в письмах» или «бал-маскарад»: участники, назвавшись вымышленными именами и исполняя роли вымышленных персонажей, вступают в переписку, что позволяет им обмениваться чистосердечными мнениями друг о друге, чего бы они едва ли позволили себе в реальной жизни.
Вместе с младшим братом Адрианом и его кембриджским приятелем Хорасом Коулом, большими искусниками по части «практических шуток», Вирджиния, переодевшись абиссинцем (тюрбан, золотая цепь до пояса, вышитый кафтан), заявилась на флагманский линкор королевского военно-морского флота «Дредноут». Командующий флотом его величества был предупрежден юными мистификаторами, что на линкор явится почетная делегация во главе с императором Абиссинии, однако перепроверить информацию не счел нужным. И 10 февраля 1910 года «абиссинская делегация» поднялась на борт флагмана. Роль императора с блеском исполнил изъяснявшийся на суахили (специально по этому случаю выучил два-три слова) Энтони Бакстон; в его свиту вошли, приклеив усы и бороду и густо вымазав лица ваксой, «абиссинцы» Дункан Грант и Вирджиния Вулф. Адриан в криво надетом цилиндре, смахивающий, по его собственным словам, на «убогого коммивояжера», играл роль переводчика, который переводил почтенным гостям экскурсию, устроенную абиссинцам рачительными хозяевами, причем говорил смеха ради цитатами из Вергилия – доблестным британским морякам римский поэт, да и латынь, на которой он изъяснялся, были вряд ли известны. Что же касается Хораса Коула, то ему, организатору и вдохновителю сего запоминающегося действа, которому Daily Mirror от 16 февраля посвятила первую полосу, досталась роль чиновника британского МИДа, по долгу службы сопровождавшего почетных гостей из далекой Африки. И подобный спектакль Коул разыгрывал не впервые: годом раньше мошенник с не меньшим блеском сыграл роль султана Занзибара, посетившего «с официальным визитом» Кембридж, где его в здании городской ратуши принимал мэр города… Что до Вирджинии, то ей как писателю грех было не использовать этот эпизод из ее жизни: героиня ее рассказа «Общество» из раннего сборника «Понедельник ли, вторник» переодевается эфиопским принцем и поднимается на борт одного из кораблей его величества.
На некоторое (короткое, впрочем) время Вирджиния увлекается политикой: вместе с Ванессой и Джорджем празднует победу на выборах лейбористов, за которых будет неизменно голосовать и в дальнейшем. Активно участвует в движении за права женщин: бок о бок с молодыми, решительными, фанатичными представительницами прекрасного (но отнюдь не слабого) пола занимается историей феминизма, рассылает письма и даже сидит в президиуме на собраниях – не выступает, правда, ни разу.
Вновь, как это было после нервного срыва, проявилась у нее тяга к путешествиям. В апреле 1909 года Вирджиния едет с Беллами во Флоренцию, чем доставляет Клайву немалое удовольствие, каковое Ванесса, при всей своей любви к Козочке, разделяет едва ли. С Беллами же постоянно наезжает в Париж: сестра с мужем – франкофоны и франкофилы, помешанные на французском, в особенности современном, искусстве. Одно время Беллы даже всерьез подумывали, не переехать ли во Францию; не переехали, но с конца двадцатых годов проводили лето на юге Франции, где купили под Марселем в Кассисе дом. В отличие от сестры, Вирджиния предпочитала родные осины; уговорам Клайва, Роджера Фрая, Литтона Стрэчи, что, мол, «нет в мире лучше края», не поддавалась, да и французский так толком и не выучила: читала свободно, а вот говорила с трудом.
В августе того же 1909 года отправилась с Адрианом и Сидни-Тёрнером в Байройт на вагнеровский фестиваль, где, если верить младшему брату, вид имела подчас прекомичный. Когда, к примеру, часами, доводя бедных баварских продавщиц до слез, выбирала в магазине нужный ей зонтик от солнца: зонтик должен был быть обязательно белым и обязательно с зеленой подкладкой. Или когда, по своему обыкновению, выходила из здания оперы посреди «Парсифаля» или «Лоэнгрина», не дождавшись антракта.
«Выходя из оперы во время действия, вид мы имели, должно быть, довольно нелепый, – писал Ванессе из Германии Адриан, который, как выясняется, был вовсе не лишен чувства юмора. – В одной руке Козочка держала зонтик от солнца, большую кожаную сумку, пачку сигарет, коробку шоколадных конфет и либретто оперы, другой же тщетно пыталась подхватить длинный белый плащ и юбку, которые, как бы высоко она их ни поднимала, полоскались в пыли… Пытаться избавить Козочку от ее покупок было совершенно нереально, ибо, стоило только к ним прикоснуться, как они, одна за другой, падали на землю. Не успели мы найти какую-то безлюдную поляну и сесть, как Вирджиния пустилась в свои самые невероятные фантазии».
О фантазиях следует сказать особо. В эти годы у готической мадонны (такой Вирджиния Вулф запомнилась и нам по многочисленным портретам и фотографиям) появилась и еще одна особенность, выдающая в ней, кстати говоря, будущую писательницу. Умение «додумать», «дописать» характер человека, ей совершенно не известного, по какой-то одной бросающейся в глаза черте. И не только характер, но и поступки и даже обстоятельства жизни. Так, как она это продемонстрировала в заключительном пассаже своего рассказа «Ненаписанный роман», о котором еще будет сказано:
«И всё же последний взгляд на них – они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним… Загадочные незнакомцы! Мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня, где завтра?.. Я пускаюсь вслед за ними… Куда б я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы, вижу, как вы заворачиваете за угол, матери и сыновья; вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами…»[31 - Перевод Л.Беспаловой.]
Или в уже упоминавшемся эссе «Мистер Беннет и миссис Браун», которое родилось из доклада, прочитанного Вирджинией в Кембридже в мае 1924 года на обществе «Еретиков», и которое было опубликовано в июле того же года в журнале Элиота Criterion под названием «Характер в художественном произведении». В этом эссе Вирджиния описывает неизвестных ей соседей по вагону, которых она называет «мистер Смит» и «миссис Браун»:
«По молчанию миссис Браун, по напряженной учтивости, с какой говорил мистер Смит, было очевидно, что он имеет над ней какую-то власть, которой явно тяготится. Речь могла идти о разорении ее сына, или о каком-нибудь печальном эпизоде из ее жизни или из жизни ее дочери. Возможно, она ехала в Лондон подписать какие-то бумаги, касающиеся ее имущества. Очевидно было одно: она находилась во власти мистера Смита…
Я живо представила себе миссис Браун в самых различных ситуациях. Я вообразила ее в доме на морском берегу: вокруг уличные мальчишки, макеты кораблей за стеклом. На камине – медали мужа. Она вбегает и выбегает из комнаты, присаживается на стулья, хватает с тарелок еду, подолгу молча смотрит перед собой… И тут, в эту фантастическую уединенную жизнь, врывается мистер Смит. Вижу, как он внезапно появился, – словно ветром занесло. Колотит в дверь, врывается. Вокруг зонтика в прихожей образуется лужа. Садятся друг против друга переговорить».
Или, много позже, в описании служанки во время одного из путешествий Вулфов по Франции:
«В Карпентрасе вчера вечером мы встретились со служаночкой, у нее были честные глаза, кое-как расчесанные волосы и черный передний зуб. Я почувствовала, что жизнь непременно раздавит ее. Возможно, ей лет восемнадцать; немного больше; плывет по течению, надежд никаких; бедная, не слабая, но управляемая – но еще не настолько управляемая, чтобы не испытывать жгучего, сиюминутного желания путешествовать на машине… Она выйдет замуж? Станет одной из толстух, что сидят в дверях и вяжут? Нет, я предрекаю ей некую трагедию, потому что у нее хватает ума завидовать нам с нашим “ланчестером”»[32 - «Дневник писательницы». С. 234. 9 мая 1933 г.].
Как заметила сама Вирджиния в своем эссе «Как читать книги»:
«Нам становится страшно интересно, как живут эти люди… Кто они, что собой представляют? Как их зовут, чем они занимаются, о чем думают, мечтают…»[33 - Перевод Н.И.Рейнгольд.]
И, как выразился Квентин Белл:
«У воображения Вирджинии отсутствуют тормоза».
Глава шестая
«Отыскать на дне морском эти жемчужины…»
1
Мы сказали – «будущую писательницу». А между тем начинает Вирджиния писать еще в родительском доме на Гайд-парк-гейт, в уже описанной нами, бывшей «бело-голубой» (белые стены, голубые занавески на окнах) детской на предпоследнем этаже. Там же, где среди разбросанных по столу и по полу книг принимала подруг, читала и занималась с Джанет Кейс греческим и латынью. Пишет стоя, за высоким столом со скошенной столешницей. Работать стоя ей нравилось и тогда, и много лет спустя, – точно так же писала свои картины старшая сестра.
В декабре 1904 года в женском приложении к лондонскому католическому еженедельнику Guardian с разницей в неделю выходят два эссе (оба не закончены) двадцатидвухлетней рецензентки: «Сын королевского Лэнгбрита» и «Хоуорт, ноябрь 1904 года». В первом говорится об одноименной книге известного американского писателя, журналиста, издателя и критика Уильяма Дина Хоуэллса; во втором – о поездке Вирджинии в Хоуорт, на родину горячо ею любимых сестер Бронте. Литературный дебют будущего классика был не столь уж удачен: вскоре после первых двух рецензий Cornhill Magazine забраковал ее статью о письмах Джеймса Босуэлла, да и «Хоуорт» не вызвал у мэтров большого энтузиазма: политик и литератор Р.Б.Холдейн в письме Вайолет Дикинсон отозвался о пробе пера Вирджинии довольно кисло:
«Эти места вызывают у меня огромный интерес. А потому упоминание об этой книге в печати заслуживает добрых слов – автор, однако, мог бы поглубже погрузиться в предмет своего исследования».
Вообще, «путь в критики», поиск «предмета своего исследования» был для Вирджинии Стивен совсем не так прост, и поначалу прокладывала она его с трудом. Как и полагается начинающему критику, она рецензировала всё подряд, тем более что нужны были деньги, а одна рецензия, в зависимости от авторитетности издания, стоила в те годы от трех до пяти (и даже десяти – Times) фунтов стерлингов – сумма вполне приличная. Писала рецензии на книги по истории, на путевые очерки, на романы (как правило, второсортные), на феминистские книги («Женский мотив в художественной литературе»). Писала и эссе, первое время очень короткие и тоже на самые разнообразные темы – об уличных музыкантах, например, или о природе смеха, или об упадке эссеистического жанра. Случались – правда, редко – и задания более ответственные: скажем, отрецензировать для того же Guardian роман Генри Джеймса «Золотая чаша». Бывало, ее труды из редакций газет и журналов возвращали или же сильно сокращали. Из Times Literary Supplement ей вернули эссе о Екатерине Медичи на том основании, что оно «недостаточно академично». А если не возвращали, то правили, и сильно – в основном за резкий тон.
«Рецензируя, получаю огромное удовольствие оттого, что говорю гадости, а ведь приходится быть уважительной», – пишет она в это время Мэдж Воган.