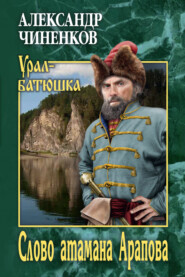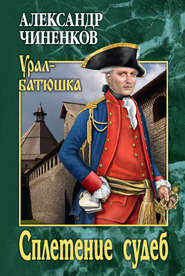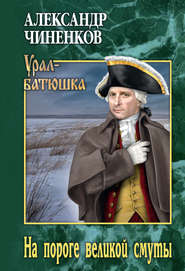По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Христоверы
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так с чем ты ко мне пожаловал? Не снег же покупать, раз своего достаточно.
– Вижу, и ты не последний хрен без соли доедаешь? – парировал Куприянов. – Лошадку вон какую прикупил. Моя клячей в сравнении кажется.
– Так продай свою и такую же купи? – продолжил соревнование в остроумии Матвей Кузьмич. – У тебя же денег куры не клюют, а ты всё прибедняешься.
– Это злые языки меня богачом выставляют, – «заскромничал» Куприянов. – А я такой, как все. Не богат шибко, да и не беден. А вот ты на какие шиши прибарахляешься? Почитай самый нищий в деревне был, а сейчас вдруг самый богатый.
– Да где там, – вздохнул старик. – Денег на лошадь мне сыночек дал. Он у купца богатого приказчиком состоит. Сам живёт не тужит и нас с матерью не забывает.
– А ты ври-ври, да не завирайся, Матвей, – не поверил ему Макар. – Старший твой сын в Астрахани живёт. Настрогал детишек косой десяток и едва концы с концами сводит.
– Да я тебе про второго говорю, – замялся Матвей Кузьмич. – Он же в Оренбурге…
– А третий и четвёртый? – грубо перебил его Куприянов. – Пантелей с Гурьяном где, сучьи дети? Они ещё с каторги случаем не возвернулись? Как я помню, убили они в Самаре купца Лукьянова, все денежки из его избы вынесли. А ведь немало было денег-то. Сыновей твоих окаянных на каторгу осудили, а денег ведь так и не нашли?
– По напраслине их обвинили, сыночков моих, – помрачнел Матвей Кузьмич. – Это ты указал на них тайно, Макарка, вот их и загребли.
– Э-э-э, да будя чад своих выгораживать, Матвей? – повысил голос Куприянов. – Тати они, и сказ весь! А ты, чую, раскопал их кубышки, вот и живёшь, как барин, и в ус не дуешь.
– А ну вон со двора моего, аспид! – возмутился Матвей Кузьмич. – Ты чего это сыночков моих лаешь? Они горюшко мыкают где-то в Сибири кандальной за грех чужой, а ты…
– Хорошо, хорошо, ухожу я, – попятился Куприянов, видя, что старик Звонарёв берётся за черен воткнутой в снег лопаты. – Только упрядить тебя хочу, Матвей, напоследок. Донесу я на тебя уряднику в полицию. Пущай придут и поглядят, на какие шиши ты богатством обрастаешь.
– Постой, обожди, Макар Авдеевич, – испугался старик. – Не надо никуда доносить. Ежели хочешь, коня своего отдам с телегой вместе, но только не доноси на меня уряднику.
– Что ж, считай, что уговорил, – согласился Куприянов «великодушно». – Конь твой мне понравился. Так и быть, не пойду пока к уряднику. Обманешь, то не взыщи…
Он развернулся и зашагал к выходу со двора и вскоре исчез за воротами.
Напуганный старик заспешил в дом. Следом за ним зашла и Марфа Григорьевна. Она не участвовала в разговоре, но по её лицу было видно, что она всё слышала.
Силантий встретил их, сидя за столом.
– Ой, горе-горюшко камнем свалилось на головушки наши! – с порога заголосил несчастный старик. – Ой, Макарка, поганец глаз завидущий на добро наше положил!
– Что же делать теперь, Господи! – вторя ему, заголосила Марфа Григорьевна. – Макарка-то, аспид, с урядником полицейским Маркелом дружбу водят! Они же нас изничтожат, нехристи проклятущие! Они же нас вслед за сыночками на каторгу упекут?
Силантий не выдержал горестных стенаний родителей и ударил кружкой по столу.
– Угомонитесь! – прикрикнул он на обомлевших стариков. – И коня с телегой вести к нему не надо! Я сам встречусь с ним и по душам поговорю.
– А что проку в том? – всхлипнула Марфа Григорьевна. – Разве Макарку теперь остановишь?
– Я это сделаю, – заверил Силантий родителей сурово. – А как, не ваша забота.
– Сынок, родненький, да он и слухать тебя не станет? – всплеснула руками Марфа Григорьевна. – Ступишь на порог, так он тебя взашей выставит. Ты же вон убогий, хворый весь, а Макарка… Этого борова паскудного оглоблей не перешибёшь.
– Не сумлевайтесь, родители, я найду способ его урезонить, – хмыкнул Силантий, сворачивая самокрутку. – Вы мне, помнится, говорили, что сосед ваш частенько в город ездит?
– Через день, – кивнул Матвей Кузьмич, – а то и каждый день.
– А после своих базарных дел он по какой дороге возвращается? – задумался Силантий.
– Да какая сейчас дорога, сынок? – вздохнула Марфа Григорьевна. – Просека в снегу, санями наезженная. И одна она у нас, не заблудишься.
– А возвращается он, когда небеса темнеют, – продолжил обеспокоенно старик. – Только для чего это тебе знать понадобилось, скажи?
– Встречу его на дороге и поговорю, чтоб из избы за порог не выставили, – признался Силантий. – Да и домочадцев его пугать неохота безобразным видом своим.
– Ты что же задумал, сынок? – простонала Марфа Григорьевна. – Мало ли тебе на войне досталось? Да он тебя зараз на каторгу упечёт вслед за братьями.
– Тогда давайте беды от него терпеть?! – зло усмехнулся Силантий. – Отдадим ему коня с телегой и что? Думаете, он на этом успокоится и отстанет от вас?
– А может, возьмёт он коня да угомонится? – проговорил нерешительно Матвей Кузьмич. – А тебе… Не надо греха брать на душу, сынок?
– У-у-ух, я уже столько грехов взял на душу, батя, что она внутри меня по швам трещит от изобилия, – вздохнул Силантий. – Так что одним грехом больше мне без разницы.
– Нет, не ходи никуда, сынок! – взмолилась мать. – Не зли зазря этого беса Макарку!
– Это уже не вам решать, родители, – сказал как отрезал Силантий. – Мать, ну-ка стол накрывай да щей наливай. Проголодался я нынче что-то, аж желудок сводит, однако…
17
Савва Ржанухин потянул за вожжи и остановил лошадь. Евдокия Крапивина сошла с саней и осмотрелась. В тёплой шубейке, в повязанном по-старушечьи пуховом платке, она топталась на месте, дожидаясь, когда Савва уедет.
Когда сани скрылись из виду, девушка свернула на другую улицу и поспешила с оглядками в направлении церкви.
* * *
К её приходу молящихся внутри огромного соборного храма было немного. Трижды перекрестившись и отвесив поклоны, Евдокия прошла к правому пределу и остановилась перед иконой Николая Чудотворца. Глядя на лик святого, она снова трижды перекрестилась и бросила беглый взгляд на батюшку.
Он стоял к ней спиной на амвоне и певучим звонким голосом читал молитву. Батюшка был молод и красив, и Евдокия давно обратила внимание на его приятную притягательную внешность.
В это утро девушка молилась особо горячо, позабыв обо всём на свете. Она обращалась к ликам святых, моля их о прощении всех своих вольных и невольных грехов и прегрешений. Она просила святых заступиться за неё перед Господом Богом и позаботиться о воюющем где-то муже.
Шепча молитвы, Евдокия во все глаза смотрела на иконы. Ей казалось, что святые говорят с ней, и она сердцем, как губкой, впитывала благодать, исходящую от икон, и никак не могла насладиться ею.
Евдокия пришла в себя после окончания службы. Батюшка как раз приступил к совершению обряда поминовения по безвременно погибшим на войне. В другой части храма еще один священнослужитель начал крестить детей. А молодой батюшка вдруг подошёл к Евдокии и, глядя ей в глаза, улыбнулся.
– Я тебя иногда вижу в стенах храма, сестра, – произнес он чистым, проникновенным голосом, заставившим затрепетать и сжаться сердце Евдокии. – И всегда читаю я на лице твоём горе и печаль. Может быть, ты желаешь исповедоваться, но не можешь решиться на это святое таинство?
– В-вы п-правы, б-батюшка, – растерялась Евдокия. – Я редко прихожу в стены храма… Только когда невмоготу становится. Ходила бы чаще, да нет такой возможности.
– Вижу, ты в секте хлыстов состоишь, сестра? – ненавязчиво поинтересовался батюшка. – А может быть, скопцов, что ещё хуже. А ещё читаю я на твоём лице, что тебе там несладко приходится.
Глядя на батюшку и слыша его проникновенный, волнующий её голос, Евдокия вдруг почувствовала потребность всё рассказать ему. Но старец Андрон требовал от адептов никогда никому ничего не говорить, что происходит в стенах секты.
– Да, я христоверка и не отрицаю этого, – вздохнула девушка. – А в храм Божий влечёт меня обречённость. Я хочу стоять в толпе прихожан храма, креститься, молиться, ставить зажженные свечи перед иконами, а после ощущать внутри себя благодать душевную.
– Вижу, и ты не последний хрен без соли доедаешь? – парировал Куприянов. – Лошадку вон какую прикупил. Моя клячей в сравнении кажется.
– Так продай свою и такую же купи? – продолжил соревнование в остроумии Матвей Кузьмич. – У тебя же денег куры не клюют, а ты всё прибедняешься.
– Это злые языки меня богачом выставляют, – «заскромничал» Куприянов. – А я такой, как все. Не богат шибко, да и не беден. А вот ты на какие шиши прибарахляешься? Почитай самый нищий в деревне был, а сейчас вдруг самый богатый.
– Да где там, – вздохнул старик. – Денег на лошадь мне сыночек дал. Он у купца богатого приказчиком состоит. Сам живёт не тужит и нас с матерью не забывает.
– А ты ври-ври, да не завирайся, Матвей, – не поверил ему Макар. – Старший твой сын в Астрахани живёт. Настрогал детишек косой десяток и едва концы с концами сводит.
– Да я тебе про второго говорю, – замялся Матвей Кузьмич. – Он же в Оренбурге…
– А третий и четвёртый? – грубо перебил его Куприянов. – Пантелей с Гурьяном где, сучьи дети? Они ещё с каторги случаем не возвернулись? Как я помню, убили они в Самаре купца Лукьянова, все денежки из его избы вынесли. А ведь немало было денег-то. Сыновей твоих окаянных на каторгу осудили, а денег ведь так и не нашли?
– По напраслине их обвинили, сыночков моих, – помрачнел Матвей Кузьмич. – Это ты указал на них тайно, Макарка, вот их и загребли.
– Э-э-э, да будя чад своих выгораживать, Матвей? – повысил голос Куприянов. – Тати они, и сказ весь! А ты, чую, раскопал их кубышки, вот и живёшь, как барин, и в ус не дуешь.
– А ну вон со двора моего, аспид! – возмутился Матвей Кузьмич. – Ты чего это сыночков моих лаешь? Они горюшко мыкают где-то в Сибири кандальной за грех чужой, а ты…
– Хорошо, хорошо, ухожу я, – попятился Куприянов, видя, что старик Звонарёв берётся за черен воткнутой в снег лопаты. – Только упрядить тебя хочу, Матвей, напоследок. Донесу я на тебя уряднику в полицию. Пущай придут и поглядят, на какие шиши ты богатством обрастаешь.
– Постой, обожди, Макар Авдеевич, – испугался старик. – Не надо никуда доносить. Ежели хочешь, коня своего отдам с телегой вместе, но только не доноси на меня уряднику.
– Что ж, считай, что уговорил, – согласился Куприянов «великодушно». – Конь твой мне понравился. Так и быть, не пойду пока к уряднику. Обманешь, то не взыщи…
Он развернулся и зашагал к выходу со двора и вскоре исчез за воротами.
Напуганный старик заспешил в дом. Следом за ним зашла и Марфа Григорьевна. Она не участвовала в разговоре, но по её лицу было видно, что она всё слышала.
Силантий встретил их, сидя за столом.
– Ой, горе-горюшко камнем свалилось на головушки наши! – с порога заголосил несчастный старик. – Ой, Макарка, поганец глаз завидущий на добро наше положил!
– Что же делать теперь, Господи! – вторя ему, заголосила Марфа Григорьевна. – Макарка-то, аспид, с урядником полицейским Маркелом дружбу водят! Они же нас изничтожат, нехристи проклятущие! Они же нас вслед за сыночками на каторгу упекут?
Силантий не выдержал горестных стенаний родителей и ударил кружкой по столу.
– Угомонитесь! – прикрикнул он на обомлевших стариков. – И коня с телегой вести к нему не надо! Я сам встречусь с ним и по душам поговорю.
– А что проку в том? – всхлипнула Марфа Григорьевна. – Разве Макарку теперь остановишь?
– Я это сделаю, – заверил Силантий родителей сурово. – А как, не ваша забота.
– Сынок, родненький, да он и слухать тебя не станет? – всплеснула руками Марфа Григорьевна. – Ступишь на порог, так он тебя взашей выставит. Ты же вон убогий, хворый весь, а Макарка… Этого борова паскудного оглоблей не перешибёшь.
– Не сумлевайтесь, родители, я найду способ его урезонить, – хмыкнул Силантий, сворачивая самокрутку. – Вы мне, помнится, говорили, что сосед ваш частенько в город ездит?
– Через день, – кивнул Матвей Кузьмич, – а то и каждый день.
– А после своих базарных дел он по какой дороге возвращается? – задумался Силантий.
– Да какая сейчас дорога, сынок? – вздохнула Марфа Григорьевна. – Просека в снегу, санями наезженная. И одна она у нас, не заблудишься.
– А возвращается он, когда небеса темнеют, – продолжил обеспокоенно старик. – Только для чего это тебе знать понадобилось, скажи?
– Встречу его на дороге и поговорю, чтоб из избы за порог не выставили, – признался Силантий. – Да и домочадцев его пугать неохота безобразным видом своим.
– Ты что же задумал, сынок? – простонала Марфа Григорьевна. – Мало ли тебе на войне досталось? Да он тебя зараз на каторгу упечёт вслед за братьями.
– Тогда давайте беды от него терпеть?! – зло усмехнулся Силантий. – Отдадим ему коня с телегой и что? Думаете, он на этом успокоится и отстанет от вас?
– А может, возьмёт он коня да угомонится? – проговорил нерешительно Матвей Кузьмич. – А тебе… Не надо греха брать на душу, сынок?
– У-у-ух, я уже столько грехов взял на душу, батя, что она внутри меня по швам трещит от изобилия, – вздохнул Силантий. – Так что одним грехом больше мне без разницы.
– Нет, не ходи никуда, сынок! – взмолилась мать. – Не зли зазря этого беса Макарку!
– Это уже не вам решать, родители, – сказал как отрезал Силантий. – Мать, ну-ка стол накрывай да щей наливай. Проголодался я нынче что-то, аж желудок сводит, однако…
17
Савва Ржанухин потянул за вожжи и остановил лошадь. Евдокия Крапивина сошла с саней и осмотрелась. В тёплой шубейке, в повязанном по-старушечьи пуховом платке, она топталась на месте, дожидаясь, когда Савва уедет.
Когда сани скрылись из виду, девушка свернула на другую улицу и поспешила с оглядками в направлении церкви.
* * *
К её приходу молящихся внутри огромного соборного храма было немного. Трижды перекрестившись и отвесив поклоны, Евдокия прошла к правому пределу и остановилась перед иконой Николая Чудотворца. Глядя на лик святого, она снова трижды перекрестилась и бросила беглый взгляд на батюшку.
Он стоял к ней спиной на амвоне и певучим звонким голосом читал молитву. Батюшка был молод и красив, и Евдокия давно обратила внимание на его приятную притягательную внешность.
В это утро девушка молилась особо горячо, позабыв обо всём на свете. Она обращалась к ликам святых, моля их о прощении всех своих вольных и невольных грехов и прегрешений. Она просила святых заступиться за неё перед Господом Богом и позаботиться о воюющем где-то муже.
Шепча молитвы, Евдокия во все глаза смотрела на иконы. Ей казалось, что святые говорят с ней, и она сердцем, как губкой, впитывала благодать, исходящую от икон, и никак не могла насладиться ею.
Евдокия пришла в себя после окончания службы. Батюшка как раз приступил к совершению обряда поминовения по безвременно погибшим на войне. В другой части храма еще один священнослужитель начал крестить детей. А молодой батюшка вдруг подошёл к Евдокии и, глядя ей в глаза, улыбнулся.
– Я тебя иногда вижу в стенах храма, сестра, – произнес он чистым, проникновенным голосом, заставившим затрепетать и сжаться сердце Евдокии. – И всегда читаю я на лице твоём горе и печаль. Может быть, ты желаешь исповедоваться, но не можешь решиться на это святое таинство?
– В-вы п-правы, б-батюшка, – растерялась Евдокия. – Я редко прихожу в стены храма… Только когда невмоготу становится. Ходила бы чаще, да нет такой возможности.
– Вижу, ты в секте хлыстов состоишь, сестра? – ненавязчиво поинтересовался батюшка. – А может быть, скопцов, что ещё хуже. А ещё читаю я на твоём лице, что тебе там несладко приходится.
Глядя на батюшку и слыша его проникновенный, волнующий её голос, Евдокия вдруг почувствовала потребность всё рассказать ему. Но старец Андрон требовал от адептов никогда никому ничего не говорить, что происходит в стенах секты.
– Да, я христоверка и не отрицаю этого, – вздохнула девушка. – А в храм Божий влечёт меня обречённость. Я хочу стоять в толпе прихожан храма, креститься, молиться, ставить зажженные свечи перед иконами, а после ощущать внутри себя благодать душевную.