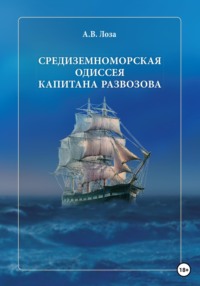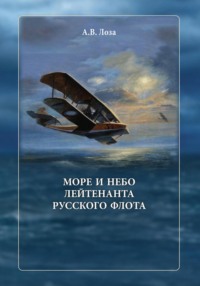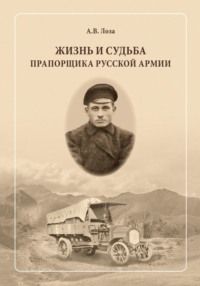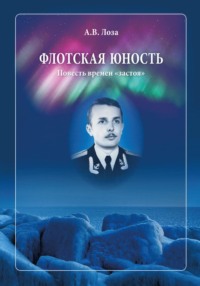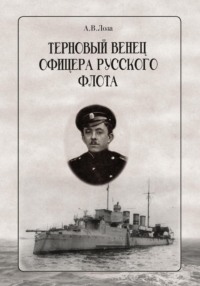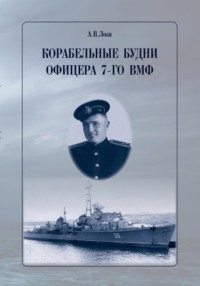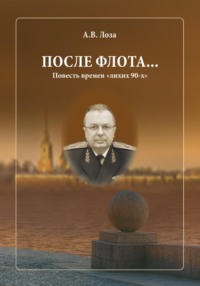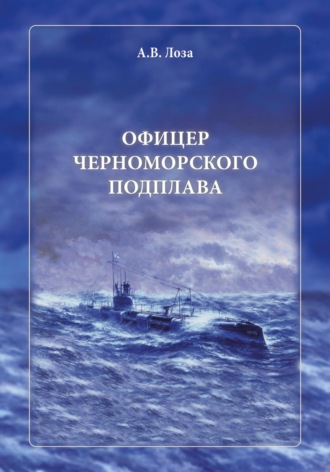
Офицер черноморского подплава
Подводная лодка 2-го дивизиона «Кашалот» готовилась к выходу в море. Боезапас уже погрузили. Продолжали грузить продовольствие, запасные части… Погрузку прервал стихийный митинг экипажа, который начался прямо на причальной стенке Подплава. С импровизированной трибуны, составленной из ящиков с запасными частями и бочек из-под машинного масла, один за другим выступали матросы лодки:
– В России, братцы, революция! Николашку кровавого сковырнули, теперь свобода! Надо избрать нового командира. Выдвигаю на голосование одну кандидатуру – старшего лейтенанта Столицу! Какие будут соображения?
– Да чего там! Знаем, он хоть и офицер «старого режиму», но добер к матросу!
– Не первый год служим…
– Даешь Столицу!
– А что старшой? – раздался чей-то голос. – Что с Монастыревым? Строг больно, не уважает матросов, редко отпускает на берег.
Матросы загалдели…
– А остальные офицеры? Минный офицер Ярышкин, приверженец старых порядков на флоте, больно требователен…
– А механик?
– Механика знаем… Да и минный офицер зря не придирается…
Офицеры, находившиеся тут же на причале, слушая матросов, недоуменно переглядывались…
Наконец матросы, пошумев и поспорив, решили:
«Разрешить остаться офицерам на лодке».
Ответственный за погрузку минный офицер «Кашалота» лейтенант Ярышкин, оглядев собравшихся, спокойно, хотя в душе у него все кипело, скомандовал:
«Заканчивать погрузку!»…
О чем-то подобном, об отношении команды к своим офицерам, позже вспоминал офицер черноморского Подплава Н.А. Монастырев: «Всю «прелесть» свободы революционного флота я почувствовал сразу же по прибытию на подводную лодку «Орлан». Команда тут же собралась на митинг, чтобы решить… нужен ей новый офицер или нет. Двое из команды служили со мной на «Крабе». Одного из них я как-то наказал за пререкание с унтер-офицером… Предъявленные мне претензии сводились к тому, что я строг, приверженец старых порядков, не уважаю матросов, редко отпускаю их на берег.
Наконец, матросы передали мне окончательное решение: команда надеется, что я исправлюсь, а потому разрешает мне остаться на борту «Орлана»…»
6 марта 1917 года в севастопольском Народном доме, что на Базарной площади у Артиллерийской бухты, при стечении народа состоялись выборы в городской Исполнительный комитет. Выбрали девятнадцать человек: трое – от городской думы, трое – от населения, шестеро – от рабочих, трое от гарнизона и четверо – от флота.
В этот день, у далеких берегов Босфора, подводная лодка «Нерпа» потопила турецкую шхуну с углем.
И в этот же день командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак послал телеграмму Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего, в которой сообщалось, что на кораблях и в сухопутных частях, находящихся в Севастополе, пока «не было никаких внешних проявлений, только на некоторых кораблях существует движений против офицеров, носящих немецкую фамилию. Команда и население просили меня послать от лица Черноморского флота приветствие новому правительству, что мною и исполнено. Представители нижних чинов, собравшиеся в Черноморском экипаже, обратились ко мне с просьбой иметь постоянное собрание из выборных, для обсуждения их нужд. Я объяснил им несовместимость этого с понятием воинской чести и отказался…»
7 марта адмирал Колчак отослал Председателю Совета Министров телеграмму следующего содержания:
«От имени Черноморского флота и Севастопольского гарнизона прошу принять и передать Совету Министров уверения, что Черноморский флот и крепость всецело находятся в распоряжении народного правительства и приложат все силы для доведения войны до победного конца».
В этот же день командующий Черноморским флотом
А.В. Колчак объявил приказ Военного и Морского министра Временного правительства, отменявший наименование матросов «нижними чинами», титулование офицеров, а также ограничения гражданских прав нижних чинов, приказал выпустить из тюрьмы политических заключенных, после чего в Севастополе распустили полицию и жандармское управление.
В это время по инициативе группы офицеров флота и гарнизона состоялось Офицерское собрание. Собрание офицеров, рассмотрев ситуацию, решило создать организацию, объединившую интересы офицеров, матросов и солдат. Избрали Временный Исполнительный Комитет из девяти человек под председательством Генерального штаба подполковника А.И. Верховского. В комитет вошли капитан 1-го ранга А.В. Немитц, лейтенант Р.Р. Левговд, статский советник И.Н. Свечников и другие. По этому поводу Командующим флотом издал приказ № 847:
«ПРИКАЗ
Командующего Черноморским флотом
Севастопольский рейд, Марта 8 дня 1917 г.
№ 847
Объявляю по флоту, портам и подчиненным мне сухопутным частям резолюцию собрания офицеров Флота и Армии.
Офицеры Флота и Гарнизона, собравшись, в громадном числе, во главе с Командующим флотом в Морском собрании 7 марта 1917 года в 4 часа дня, чтобы отозваться на переживаемые Родиной великие события, восторженно и единодушно, благословляемые своим духовенством, приветствовали возрождение России к новой свободной жизни и решили отдать все свои силы для победоносного окончания войны и защиты свободного Русского народа и облеченного его доверия правительства.
В целях тесного и непосредственного единения с матросами и солдатами офицеры избрали исполнительный комитет в следующем составе:
Председатель, Генерального Штаба подполковник Верховский (Начальник штаба Черноморской морской дивизии)
Члены: Капитан 1 ранга Немитц (Начальник 1-го дивизиона эскадренных миноносцев).
Старший лейтенант Каллистов (Командующий эскадренным миноносцем «Живой»).
Старший лейтенант Афанасьев (Пристрелочная станция).
Лейтенант Левговд (Помощник Флаг-капитана по распорядительной части Штаба командующего Черноморским флотом).
Лейтенат Ромушкевич (Авиация).
Инженер-механик капитан 2 ранга Дворикченко (Механическая часть Севастопольского порта).
Прапорщик Широкий (Севастопольская крепостная артиллерия).
Доктор медицины статский советник Свечников (Старший врач Морского Кадетского корпуса).
Приказ этот прочесть при собрании команд на кораблях, в ротах, сотнях, батареях и объявить работающим в портах, на заводах и населению, а также распространить в городах, местечках и селениях подведомственных мне районов, расклеивать на видных местах.
Вице-адмирал КОЛЧАК»
Вечером, около 22 часов этого же дня, члены Центрального Военного Исполнительного Комитета, избранного матросами и унтер-офицерами за несколько дней до этого, оправились на железнодорожный вокзал Севастополя встречать назначенного Временным Правительством Комиссара флота – члена Государственной Думы И.Н. Тулякова. В зале I класса состоялось первое заседание Временного Военного Исполнительного Комитета, где наметили структуру и задачи комитета. Вместе с Туляковым в Севастополь приехала группа членов Государственной Думы.
На следующий день члены Государственной Думы разъехались по кораблям и частям, выступая на многочисленных митингах и собраниях. От имени Временного Правительства и Петроградского Совета И.Н. Туляков подписал мандат, представляющий Центральному Временному Исполнительному Комитету право «командировать по его усмотрению своих делегатов в различные города для ведения агитационной работы».
Ситуация накалялась. Чтобы ее разрядить, командующий флотом А.В. Колчак приказал: «…В ознаменование великих событий освободить от наказаний за противодисциплинарные проступки, наложенных властью начальников не по суду до 8 марта на всех чинов подчиненных мне частей флота и армии».
8 марта был опубликован приказ коменданта Севастопольской крепости контр-адмирала Веселкина о сложении с себя власти генерал-губернатора. Кроме того, было опубликовано Извещение начальника охраны города Севастополя о том, что «за отсутствием надобности бывшие чины полиции Севастопольского градоначальника» передаются в распоряжение воинского начальника.
В этот день состоялось заседание Центрального Военного Исполнительного Комитета, который обязался всеми способами поддерживать Временное Правительство и обратился к адмиралу Колчаку с просьбой предоставить помещение, денежные средства и содействовать изданию газеты «Вестник Севастопольского ЦВИКа».
Интересный факт: «В эти дни в Севастополе была получена телеграмма присяжного поверенного Резникова, бывшего защитника лейтенанта П.П. Шмидта на суде 1906 года о восстании на крейсере «Очаков» следующего содержания:
«Старый друг и защитник матросов Черноморского флота шлет горячий привет и провозглашает вечную память великим гражданам-мученикам: лейтенанту Шмидту и матросам».
9 марта на отдельном собрании кондукторы Черноморского флота выбрали своих делегатов в Центральный Военный Исполнительный Комитет. В свою очередь, рабочие порта, руководимые меньшевиками, создали Совет рабочих депутатов, а гарнизон крепости создал Совет солдатских депутатов. Эти два совета объединились в один – Совет солдатских и рабочих депутатов Севастополя. Новый совет под руководством меньшевиков вступил в открытую конфронтацию с Центральным Военным Исполнительным Комитетом.
В этот же день большевистская газета «Правда» № 4 на первой полосе в программной статье «Тактика революции» писала: «После победы революции 27 февраля рабочие по доброй воле предоставили Думе избрать временную власть – Исполнительный Комитет Г. Думы.
Но этот факт чреват последствиями огромной важности.
В нем таилась опасность утраты рабочей демократией самостоятельных политических позиций…
Революция есть, прежде всего, захват победителем политической власти и организация ее на соответственно новых началах. Рабочие должны взять власть в собственные руки в полном объеме… У рабочих остаются еще две позиции… Позиции эти – демократическая республика и прекращение войны.
Республика – дело Учредительного Собрания.
Правящие классы неспособны окончить настоящую войну благодаря путанице капиталистических интересов, которую они создали до войны и усложнили войной. Только рабочие и солдаты воюющих стран могут положить ей конец революционным путем и заключить мир на условиях, установленных без участия официальных сфер.
Если рабочие откажутся и от этих позиций, то это будет означать, что они совершили революцию лишь ради кое-какой буржуазной свободы – не больше.
Товарищи, вы должны это понять».
Товарищи! Читайте «Правду» вслух на улицах и митингах и передавайте другим.
На следующий день «Правда» опубликовала статью «Революционная армия и офицерство», которая указывала на повсеместное стремление офицерства взять руководство революцией в свои руки. «Правда» призывала солдатские комитеты очистить армию от реакционного офицерства и организовать во всех частях комитеты, которые должны следить за тем, чтобы командование армии не находилось в руках сторонников старого режима.
Командующий Черноморским флотом Колчак, понимая всю опасность призывов большевиков, говорил: «Ужасное состояние – приказывать, не располагая реальной силой обеспечить выполнение приказания, кроме собственного авторитета (11 марта 1917 г.)».
Противостояние Временного Правительства и Советов (Петросовета, Моссовета и других советов) все больше расширяло двоевластие по всей стране. Это двоевластие вносило сумятицу и путаницу в умы общества, охватив революционным порывом и учащуюся молодежь. 12 марта собрание учащихся города Севастополя, прошедшее в помещении гимназии
В.И. Дриттенпрейс, послало приветственную телеграмму Министру народного просвещения Временного Правительства, в которой выразило готовность работать на «ниве просвещения, озаренной солнцем свободы, с твердою верою, что школьная жизнь, освобожденная от оков формализма, произвола и бесправия, будет пересоздана на принципах права и гуманности с широким применением выборного права». Учителя Севастополя на общем собрании учителей средних и низших школ города поставили вопрос об учреждении профсоюза учителей.
14 марта Начальник штаба Верховного Главнокомандующего написал Временному Правительству, что в Черноморском флоте отречение от престола Николая II встречено спокойно «и с пониманием важности переживаемого момента. Работы не прекращались и не прекращаются…» А 19 марта Начальник Морского штаба Ставки доложил Верховному Главнокомандующему, что «происшедшие события до настоящего времени на боеготовности Черноморского флота не отразились, авторитет старших начальников и офицеров мало поколеблен, почему полагаю, что при настоящих условиях общественной жизни Черноморский флот может считаться боеспособным».
Очевидец событий князь В.А. Оболенский, побывавший в Севастополе в конце марта 1917 года, позже, в своих мемуарах, вспоминал: «Особенно поразил меня вид Севастополя: солдаты и матросы, подтянутые и чистые, мерно отбивающие шаг в строю и отчетливо козыряющие офицерам вне строя. После того, что привык видеть в Петербурге – после этих распоясанных гимнастерок, сдвинутых на затылок шапок, всевозможной распущенности и хамства, так быстро сменивших в частях Петербургского гарнизона утраченную военную дисциплину, севастопольский «революционный порядок» казался каким-то чудом. И невольно в это чудо хотелось верить и верилось».
Если говорить правду, то процесс разложения личного состава Черноморского флота, конечно, происходил, но происходил медленнее, чем на Балтике, чему способствовали удаленность промышленных, рабочих центров от черноморских флотских баз; обстановка закрытых гарнизонов военного времени, куда агитаторам всех мастей проникнуть было сложнее; активное участие Черноморского флота в боевых действиях, в том числе в зимние и в весенние месяцы, когда корабли на Балтике стояли во льду; личный состав, осознавая превосходство своего Черноморского флота над противником, чувствовал гордость за флот и за свою службу.
Командующий флотом А.В. Колчак так охарактеризовал положение дел: «Шаткая стабильность».
Но несмотря на все усилия командования, налаженная флотская организация разрушалась, офицеры, получившие большой боевой опыт за три года войны, дискредитировались и выполнять им свой долг было практически невозможно. Все офицеры ходили потерянными; подавленными сознанием полного бессилия. Кругом шла голова от разверзшейся революционной бездны, почва уходила из-под ног, не на что было опереться… Нижние чины флота разлагались под влиянием революционной и националистической демагогии, отработанные, спаянные экипажи разрывались на части националистами и активистами различных партий, дезертирство и анархия довершали всеобщий развал.
…Всю обширную территорию юга России лихорадило.
В Киеве собралась какая-то Центральная Рада, под председательством профессора М. Грушевского, написавшего «Историю Украины – Руси», главного идеолога «украинства» и Украины как страны, отдельной от России, который призывал строить «независимую судьбу украинского народа», «свободную автономную Украину». Временное Правительство разрешило в Киевском учебном округе преподавание на «украинской мове». В Киеве проходили митинги под лозунгами «Долой правительство капиталистов!», «Нам нужен мир, а не Проливы!», «Мы требуем самостоятельной Украины!».
В Киеве на Думской площади украинские националисты провели символическую «казнь» над памятником Петру Столыпину, убитому революционерами в киевском оперном театре. Проведенный на площади церемониальный «незалежный» суд приговорил Петра Столыпина, как символ старого режима, к повешению. На площади, которая называется ныне Майдан Незалежности, над памятником Столыпину установили подобие виселицы, при помощи которой статую стащили с постамента и под улюлюкание толпы повесили.
Так сто с лишним лет назад началась нынешняя борьба «самостийной» и «незалежной» с памятниками общей нашей истории, с русским языком и русской культурой.
События, происходящие в Киеве, создание Центральной Рады, аукнулись и на Черноморском флоте. В Севастополе «Совет Украинской Черноморской громады» начал создавать из украинцев на кораблях флота и в армейских частях свои самостийные организации. Матросам и солдатам украинцам старше 40 лет «Совет…» разрешил уволиться по домам для производства сельскохозяйственных полевых работ.
В один из дней этой общей «революционной вакханалии», ясным, но ветренным утром подводная лодка «Кашалот» вышла из Севастополя. На рейде было спокойно, но пройдя Херсонесский маяк, лодка встретила крупную волну. Под-
водная лодка «Кашалот» шла в боевой поход к турецким берегам.
Находясь у вражеских берегов, подлодка «Кашалот» атаковала турецкий паром водоизмещением двести тридцать тонн и два буксира у устья реки Сакария, заставив их выброситься на камни. После того как «Кашалот» в такое смутное время ушел в море и более двух недель подводники, не имея связи с берегом, не получали никаких новостей, на сердце у минного офицера лейтенанта Петра Петровича Ярышкина было тяжко. Перед отходом он справлялся на почте – писем от Катюши не было… В глубине души Петр понимал, что произошло что-то страшное и непоправимое… И еще он пророчески чувствовал: революция заслонила от него будущее, и его и Катюши…
Накануне похода в экипаж «Кашалота» на должность старшего офицера прибыл новый офицер лейтенант С.В. Оффенберг вместо лейтенанта Н.А. Монастырева, переведенного старшим офицером на строящуюся лодку «Орлан».
Сергей Владимирович Оффенберг – севастополец, младший брат офицера-подводника лейтенанта В.В. Оффенберга, родился 17 октября 1892 года в Севастополе. Поступил воспитанником в Морской Кадетский Корпус в 1907 году. Произведен в мичманы 5 октября 1912 года и назначен вахтенным офицером на линейный корабль «Евстафий». Затем – вахтенным начальником минного заградителя «Прут». В декабре 1913 года поступил и в апреле 1914 года окончил радиотелеграфные курсы и получил назначение на Бригаду подводных лодок Черноморского флота. С 22 мая 1915 года по 21 февраля 1916 года находился в практическом плавании на подводной лодке «Тюлень». Зачислен в офицеры Подводного плавания. Вахтенный начальник подводной лодки «Карась», с июля 1916 года – минный офицер ПЛ «Морж». 30 июля 1916 года произведен в лейтенанты.
Награжден орденами Св. Анны 4 ст. в 1914 году, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом в 1915 году. Храбрый, опытный офицер – настоящий подводник.
С тусклым и тяжелым настроением офицеры подводной лодки «Кашалот» находились в море. Но войну никто не отменял. Боевая задача по пресечению перевозок морем угля и других грузов турецкими судами экипажу «Кашалота» была поставлена, и ее требовалось выполнять. 17 марта у Акче-
Шехира в районе реки Мелен-Су подводная лодка обнаружила и потопила подрывными патронами турецкую шхуну. Отлично отработала подрывная партия – подчиненные минного офицера лодки лейтенанта П. Ярышкина. В дозоре у Босфора подводная лодка «Кашалот» находилась почти до конца марта. За это время лодка дважды попадала в полосу штормовой погоды. Будучи на позиции, лодка нуждалась в спокойной обстановке для производства небольших ремонтных работ. Подобные работы возникали периодически в ходе всего похода. В надводном положении работать было невозможно, так как лодку сильно бросало волной. Командир принял решение лечь на грунт. С наступлением темноты «Кашалот» лег на грунт, но он оказался скалистым и мог повредить корпус лодки. Командир принял решение сняться с грунта и провести ночь на малом подводном ходу, производя требуемый ремонт… Наличие нужного количества и номенклатуры запасных частей для главных двигателей и других механизмов лодки и умение экипажа ремонтировать оборудование были одним из главных условий выполнения сроков и задач пребывания подводной лодки в море.
В то время как экипаж «Кашалота» патрулировал у берегов Турции, в середине марта 1917 года в газетах Севастополя был опубликован текст присяги на верность службы Временному Правительству. На Куликовом поле в Севастополе в присутствии Комиссара флота Временного Правительства И.Н. Тулякова торжественно привели к присяге на верность Временному Правительству моряков Черноморского флота и солдат гарнизона. Перед принятием присяги, как полагалось, отслужили молебен во Владимирском соборе и на Куликовом поле.
24 марта «Кашалот» возвращался с моря. Солнце медленно приближалось к закату, легкие серебристые облака легко таяли в ясном небе. Проходя мимо Константиновской батареи, офицеры и матросы на мостике «Кашалота» сразу заметили, что огромные буквы надписи «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!» были сбиты и поломаны, а само слово «Царь» замазано черной краской.
Мачты кораблей в Севастопольской бухте пестрели разноцветными флагами. На одних еще оставались Андреевские флаги, на других – красные, на третьих – «жовто-блакитные» флаги «самостийников», на четвертых – черные знамена анархистов. Становилось понятно, что как боевая сила Черноморский флот перестал существовать…
На улицах Севастополя повсюду развевались национальные флаги, но перевернутые красной полосой кверху. Не успела лодка подойти к пирсу в Южной бухте, как куча новостей посыпалась на экипаж. Эти революционные новости были непонятными, а часто и странными. Каждая такая «революционная» новость больно колола сознание лейтенанта Петра Петровича Ярышкина… Побывав на берегу и наслушавшись особо ярых агитаторов, среди которых в те дни особенно выделялся своими ораторскими способностями матрос 2-й статьи Федор Баткин, матросы «Кашалота» тут же начали митинговать и откровенно пренебрегать службой.
О матросе Баткине следует сказать особо. Несколько месяцев 1917 года имя Баткина неизменно упоминалось в севастопольских газетах в заметках о митингах и съездах. Где бы он ни выступал, слушатели восторженно рукоплескали популярному оратору. Матрос 2-й статьи Федор Исаакович (Эфроим Ицкович) Баткин безупречно владел революционной демагогией, хотя о морской службе знал лишь понаслышке. Позже А.И. Деникин в своих воспоминаниях писал: «Матрос 2-й статьи Федор Баткин по происхождению – еврей, по партийной принадлежности – эсер, по ремеслу – агитатор. В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот, через два-три дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней ехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах – на всевозможных съездах и собраниях, на фронте – на солдатских митингах раздавались речи Баткина». Рассказывают, что по популярности Ф. Баткин конкурировал с самим А. Керенским.
Экипаж «Кашалота» быстро избрал судовой комитет в составе нескольких унтер-офицеров и наиболее горластых матросов. Комитет начал активно вмешиваться во все дела, вплоть до руководства службой. Требования и увещевания со стороны офицеров, приводили к конфликтам, в которых виновными всегда оказывались офицеры. С другой стороны, судовой комитет, состоявший из нижних чинов, всякое нарушение дисциплины и неповиновение со стороны матросов оставлял безнаказанным.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, понимая, что коллективное матросское руководство не может принести никаких разумных решений по руководству боевыми кораблями, с гневом восклицал: «Что такое демократия? Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам… каждый практический политический деятель знает, что решение двух людей всегда хуже одного… наконец, уже 20–30 человек не могут вынести никаких разумных решений, кроме глупостей» и еще: «Демократия не выносит хронически превосходства, ее идеал – равенство тупого идиота с образованным развитым человеком».
Команда «Кашалота», вкусившая «прелесть» свободы и чувствуя полную безнаказанность, становилась все более распущенной. Огромных усилий стоило офицерам «Кашалота», и в первую очередь командиру, старшему лейтенанту Петру Константиновичу Столице, чтобы подводная лодка оставалась боеспособным кораблем.
После возвращения с моря «Кашалота» ее экипаж на основании приказа командующего флотом вице-адмирала Колчака присягнул на верность Временному Правительству.
Лейтенант Петр Петрович Ярышкин внимательно вчитывался в текст Присяги:
«Клянусь честью офицера (солдата) и гражданина и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным Российскому Государству как своему Отечеству.
Клянусь служить ему до последней капли крови, всемерно способствуя славе процветанию Русского Государства.
Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне возглавляющему Российское Государство, впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного Собрания.
Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу Государства и не щадя жизни ради блага Отечества.
Клянусь повиноваться всем поставленным надо мной начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда это требует мой долг офицера (солдата) и гражданина перед Отечеством.