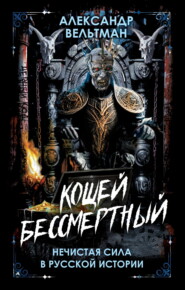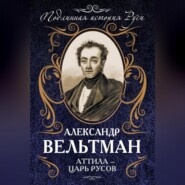По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кощей бессмертный. Былина старого времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ох вы, девушки, голубушки! бегите, ведите скорее попа с крещенской водой, да с крестным распятием!
– Ох ты, голубица моя сирая! не стало на тебе ни личика, ни образа!..
– Ох, за что осерчала на нас! мое детище? зачем стала ты камнем могильным?
– Что скажет твой красный жених, суженый, ряженый Якун Гюргович?..
Вот приходит иерей с крестом и водою крещенской, ему дают дорогу к кровати. Ива и Лазарь приближаются вместе с ним и видят на кровати, под покровом, в ночной повязке лежит безобразная личина, белая, как лик покойника, освещенный луною.
Удивленный иерей вопросил всех взорами: что такое сталось? Все вдруг заголосили еще более.
Боярин приблизился к попу и начал было говорить:
– Отец иерей! Ты ведаешь мою Ненилу…
– Ведаю, Боярин…
– Ох! крести, мой батюшка, крести! кропи святой водою! – вскричала Боярыня, увидев попа, сорвав покрывало с постели.
Священник, богатырь Ива и конюх его Лазарь, не знавшие до сего времени, что значит суматоха около кровати, отступили от удивления.
В постели лежал продолговатый обтесанный камень с изображением лика; на голове истукана была спальная девичья повязка.
– Крести, мой батюшка, окропи водосвятием! – продолжала кричать Боярыня.
– Вот что сталось с Ненилушкой, – продолжал Боярин заливаясь слезами. – Смотри, отец иерей!..
– И душечка в оконце вылетела в одной только белой сорочке с шитой бахромочкой, да в ферязи, да в сапожках желтых!.. Родная моя! остался только на нашем святом месте камык,[226 - Название вообще драгоценного камня.] болван тесаный!
– То истукан идольский, – прибавил иерей и, отдав назад дьяку кадило и кропило, отступил от кровати.
– Кади, кади, батюшка! – приговаривала Боярыня.
– Кропи, кропи, отец! – приговаривала мама, кладя земные поклоны. – Ох, шевелится, святой, шевелится…
Ошибалась она: окаменевшая Ненила не принимала прежнего своего образа.
Потеряв всю надежду на возвращение красного образа Ненилы Алмазовны, Боярыня и мама завопили горче прежнего; сенные девушки и все домовины, подставив левую руку к левой щеке, а правою рукою придерживая локоть левой руки, также точили слезы и всхлипывали в подражание горести Боярской.
Богатырь Ива, стоя подле кровати, задумался: не разрубить ли камень наполы? А Лазарь, не поняв еще ничего из всего им виденного, в сторонке расспрашивал у одной сенной девушки: зачем одели камень в одежду девичью и выгоняют из него нечистую силу?
Вот что рассказывала сенная девушка:
«У Боярина и Боярыни было одно детище, родная дочь Ненила Алмазовна; весела она была всегда и радостна; послал ей бог суженого-ряженого, Княжеского гридня, Якуна Гюрговича; уж готовили свадьбу, яства сахарные, варили пива ячные и канун. После Троицына дня быть бы свадьбе; вдруг опечалилась Ненила Алмазовна, зачала лить слезы и метаться во все стороны; призвали вещунью; пропустила она сквозь решето воду, вылила в стекляницу, разбила надвое яйцо, перелила его три раза из скорлупки в скорлупку; одну выпила, другую вылила в стекляницу; поставила на окно, накрыла его шелковым платком да примолвила: утро мудренее вечера, утро скажет праведное слово. Наутро пришли раным-ранехонько; открыли стакан – в стакане храм божий. Венчайте, говорит, не отлагайте, а то быть худу; поверили ворожее, назначили на другой день свадьбу; в уденъе был сговор; замертво вынесли из светлицы Ненилу Алмазовну после сговора, уложили в постель; Боярыня родительница и мамушка благословили ее, пошли спать; а в ночь совершилось диво дивное: красная Ненила обратилась в камень…
– Э!.. – сказал Лазарь, приложив палец ко рту. – Кощей бессмертный боярышню Нениловну вашу унес так же, как и Мириану Боиборзовну; только Мириану Боиборзовну увез и с душой и с телом в одной сорочке. И… да мы видели, как он и скакал с Ненилой Алмазовной на черном коне.
Пораженный сей мыслию, Лазарь бежит к Иве Олельковичу.
– Государь барич! что попался нам встречный, на коне, то Кощей скакал с душою Ненилы Алмазовны. Не тужи, Боярыня! барич мой не даст погибнуть Нениле Алмазовне; он едет погубить Кощея, отнять у него Мириану Боиборзовну и всех красных девиц и молодиц, что он похитил.
– Ой? – вскричал Ива, поправив шлем.
– Ой? – вскричала Боярыня. – Помоги, отец родной, господин богатырь честной, не дай погибнуть Ненилушке!
– Помоги, господин воитель, – возопила и мамушка. Сам Боярин, старик, также поклонился до земли Иве Олельковичу.
Ива Олелькович пошевелил широкими плечами и, не говоря ни слова, пошел вон из терема.
Все провожали его; но Боярыня привыкла не отпускать никого в путь без хлеба и соли…
– Погоди, постой, господин богатырь! – вскричала она и сама бросилась к поставцу, вынула поднос с ягодником, налила в чашу и поднесла Иве, который был уже на крыльце. Томимый жаждою, он выпил хмельного ягодника: целую братину, а между тем мама побежала на поварню, слуги бросились к полкам, к окнам, к столам, и в несколько мгновений трапеза была стащена со всех сторон, на столе стояло блюдо с рыбой, горшок каши и пирог, который мама уже резала на части. Иерей благословил яство, а Боярыня влекла Иву Олельковича к столу, усадила дорогого гостя и снова, налив в кубок хмельного меду, поднесла ему, Ива выпил и взял поданный ему на деревянном блюде кусок пирога.
Мама угощала Лазаря в сторонке.
Потому ли, что в кубок меду, которым Ива утолил жажду, нечистая сила подсыпала какого-нибудь зелья; или потому, что могучий мед бывает иногда сильнее могучего богатыря: сбивает с ног, выбрасывает из седла и бьет в голову так, что голова перекатывается с плеча на плечо, только у Ивы Олельковича закатились очи как солнце, а голова повисла на плеча как туча.
Но воображение его не опьянело вместе с ним: оно продолжает потчевать его, подает ему то печеные сгибни, то пересыпные караваи, то перепечи крупчатки в три лопатки недомерок, то четь хлеба, да курник подсыпной с яйцами; то щук паровых, то росольники пироги; оно подносит ему в золотых кубках олую (пива), да меду красного, да сливовицу на Угорском вине; то опять лакомит его, подает ему; оладьи с сытой, да греночик, да горошек-зобанец, да киселек клюквенный с медом, да тертую кашку с сочком с маковым, да мазулю…
Пироги сами режутся, сами кладутся прямо в рот, горошек-зобанец прыгает с блюда и прямо в рот, мазуля сама тянется из горшочка и капает прямо в рот; олуй сам пенится в кубок и льется прямо в рот.
Ива не успевает ни пережевывать, ни выпивать; хочет оттолкнуть руками, рук нет; хотел с досады стукнуть ногой, ног нет.
По горло полон Ива; нет сил, а пища так и лезет, а питье так и льется; тошно Иве.
Но вот идет к устам Ивы кубок, наполненный огнем, наклоняется, хочет уже литься, капает на язык; Ива отворачивает голову, катится со стула на пол, валится стол с яствой и посудой, звенят блюды и братины серебряные, стучит железная богатырская броня.
И Боярин, и Боярыня, и иерей, и Лазарь, и мамами все домовины крестятся, с ужасом отскакивают от Ивы, челядь бежит врозь; все уже рассказывают друг другу, творя молитвы, что нечистая сила и богатыря обратила в камень.
Лазарь, шатаясь, подошел к баричу, наклонился, выпучив очи, посмотрел ему в лицо, хотел что-то сказать: язык не говорит; хотел приподняться: спина не разгибается, а ноги подкашиваются; замутило доброго молодца – и он лежит без памяти подле барича.
На просторе храпит Ива Олелькович богатырским сном; подле него лежит на спине Лазарь; во сне ловит он по широкому полю отвязавшегося коня.
Проходит день, проходит ночь, наступает утро; просыпается Лазарь, протирает глаза, осматривается; пробуждается Ива Олелькович, протирает глаза, осматривается: никого нет, кроме Лазаря; в ногах опрокинутый стол, лежат куски и крохи хлеба, рыбы и мяса, рассыпана соль, опрокинуты братины, разлиты пиво и мед.
Приподнимается Ива. Поправляет шлем, смотрит на бок: тут ли меч? берет копье. «Коня!» – говорит он Лазарю, а у Лазаря полон рот пирога.
Вот герои идут вон из покоев, сходят с высокого крыльца; кони стоят привязаны.
Увидев витязей, домовины опять разбегаются по широкому двору и из-за углов смотрят – что будет.
Ива сел на коня; Лазарь на другого… Пустились долой с чужого двора.
VI
Если бы спросили меня читатели, по какому направлению пустился Ива Олелькович? вперед или назад? своротил в сторону или поехал прямо?.. Можно только сказать, что во время выезда его со двора Боярского светлое солнце сыпало лучи свои прямо в глаза ему; после того стало печь ему правый бок; потом, когда он проехал гору, левый; когда спустился с горы, опять правый; когда проехал лес, опять левый, и потом спину… Таким образом скачет мой богатырь на север, на юг, на запад, на восток; а его конюх Лазарь за ним хоботом; скачет через горы, бологи, холмы, леса, дебри, дубравы, боры, луга, болони, бугры, поляны, реки, ручьи, потоки, города, городища, пригородки, посады, застенья, вежи, торги, станы, селы, селища, деревни, становища, скачет так же, как и в первый день, без отдыха, без устали.
Везде народ преследует его очами, как явление необыкновенное, как огненную змею, пролетающую ночью по небу. «То, верно, Гюрга», – говорят Бояры, купцы, торговцы, люди житые, селяне, огнищане, челядь, смерда и вся простая чадь. «То, верно, Гюрга на белом коне со своим оружником».
– Ох ты, голубица моя сирая! не стало на тебе ни личика, ни образа!..
– Ох, за что осерчала на нас! мое детище? зачем стала ты камнем могильным?
– Что скажет твой красный жених, суженый, ряженый Якун Гюргович?..
Вот приходит иерей с крестом и водою крещенской, ему дают дорогу к кровати. Ива и Лазарь приближаются вместе с ним и видят на кровати, под покровом, в ночной повязке лежит безобразная личина, белая, как лик покойника, освещенный луною.
Удивленный иерей вопросил всех взорами: что такое сталось? Все вдруг заголосили еще более.
Боярин приблизился к попу и начал было говорить:
– Отец иерей! Ты ведаешь мою Ненилу…
– Ведаю, Боярин…
– Ох! крести, мой батюшка, крести! кропи святой водою! – вскричала Боярыня, увидев попа, сорвав покрывало с постели.
Священник, богатырь Ива и конюх его Лазарь, не знавшие до сего времени, что значит суматоха около кровати, отступили от удивления.
В постели лежал продолговатый обтесанный камень с изображением лика; на голове истукана была спальная девичья повязка.
– Крести, мой батюшка, окропи водосвятием! – продолжала кричать Боярыня.
– Вот что сталось с Ненилушкой, – продолжал Боярин заливаясь слезами. – Смотри, отец иерей!..
– И душечка в оконце вылетела в одной только белой сорочке с шитой бахромочкой, да в ферязи, да в сапожках желтых!.. Родная моя! остался только на нашем святом месте камык,[226 - Название вообще драгоценного камня.] болван тесаный!
– То истукан идольский, – прибавил иерей и, отдав назад дьяку кадило и кропило, отступил от кровати.
– Кади, кади, батюшка! – приговаривала Боярыня.
– Кропи, кропи, отец! – приговаривала мама, кладя земные поклоны. – Ох, шевелится, святой, шевелится…
Ошибалась она: окаменевшая Ненила не принимала прежнего своего образа.
Потеряв всю надежду на возвращение красного образа Ненилы Алмазовны, Боярыня и мама завопили горче прежнего; сенные девушки и все домовины, подставив левую руку к левой щеке, а правою рукою придерживая локоть левой руки, также точили слезы и всхлипывали в подражание горести Боярской.
Богатырь Ива, стоя подле кровати, задумался: не разрубить ли камень наполы? А Лазарь, не поняв еще ничего из всего им виденного, в сторонке расспрашивал у одной сенной девушки: зачем одели камень в одежду девичью и выгоняют из него нечистую силу?
Вот что рассказывала сенная девушка:
«У Боярина и Боярыни было одно детище, родная дочь Ненила Алмазовна; весела она была всегда и радостна; послал ей бог суженого-ряженого, Княжеского гридня, Якуна Гюрговича; уж готовили свадьбу, яства сахарные, варили пива ячные и канун. После Троицына дня быть бы свадьбе; вдруг опечалилась Ненила Алмазовна, зачала лить слезы и метаться во все стороны; призвали вещунью; пропустила она сквозь решето воду, вылила в стекляницу, разбила надвое яйцо, перелила его три раза из скорлупки в скорлупку; одну выпила, другую вылила в стекляницу; поставила на окно, накрыла его шелковым платком да примолвила: утро мудренее вечера, утро скажет праведное слово. Наутро пришли раным-ранехонько; открыли стакан – в стакане храм божий. Венчайте, говорит, не отлагайте, а то быть худу; поверили ворожее, назначили на другой день свадьбу; в уденъе был сговор; замертво вынесли из светлицы Ненилу Алмазовну после сговора, уложили в постель; Боярыня родительница и мамушка благословили ее, пошли спать; а в ночь совершилось диво дивное: красная Ненила обратилась в камень…
– Э!.. – сказал Лазарь, приложив палец ко рту. – Кощей бессмертный боярышню Нениловну вашу унес так же, как и Мириану Боиборзовну; только Мириану Боиборзовну увез и с душой и с телом в одной сорочке. И… да мы видели, как он и скакал с Ненилой Алмазовной на черном коне.
Пораженный сей мыслию, Лазарь бежит к Иве Олельковичу.
– Государь барич! что попался нам встречный, на коне, то Кощей скакал с душою Ненилы Алмазовны. Не тужи, Боярыня! барич мой не даст погибнуть Нениле Алмазовне; он едет погубить Кощея, отнять у него Мириану Боиборзовну и всех красных девиц и молодиц, что он похитил.
– Ой? – вскричал Ива, поправив шлем.
– Ой? – вскричала Боярыня. – Помоги, отец родной, господин богатырь честной, не дай погибнуть Ненилушке!
– Помоги, господин воитель, – возопила и мамушка. Сам Боярин, старик, также поклонился до земли Иве Олельковичу.
Ива Олелькович пошевелил широкими плечами и, не говоря ни слова, пошел вон из терема.
Все провожали его; но Боярыня привыкла не отпускать никого в путь без хлеба и соли…
– Погоди, постой, господин богатырь! – вскричала она и сама бросилась к поставцу, вынула поднос с ягодником, налила в чашу и поднесла Иве, который был уже на крыльце. Томимый жаждою, он выпил хмельного ягодника: целую братину, а между тем мама побежала на поварню, слуги бросились к полкам, к окнам, к столам, и в несколько мгновений трапеза была стащена со всех сторон, на столе стояло блюдо с рыбой, горшок каши и пирог, который мама уже резала на части. Иерей благословил яство, а Боярыня влекла Иву Олельковича к столу, усадила дорогого гостя и снова, налив в кубок хмельного меду, поднесла ему, Ива выпил и взял поданный ему на деревянном блюде кусок пирога.
Мама угощала Лазаря в сторонке.
Потому ли, что в кубок меду, которым Ива утолил жажду, нечистая сила подсыпала какого-нибудь зелья; или потому, что могучий мед бывает иногда сильнее могучего богатыря: сбивает с ног, выбрасывает из седла и бьет в голову так, что голова перекатывается с плеча на плечо, только у Ивы Олельковича закатились очи как солнце, а голова повисла на плеча как туча.
Но воображение его не опьянело вместе с ним: оно продолжает потчевать его, подает ему то печеные сгибни, то пересыпные караваи, то перепечи крупчатки в три лопатки недомерок, то четь хлеба, да курник подсыпной с яйцами; то щук паровых, то росольники пироги; оно подносит ему в золотых кубках олую (пива), да меду красного, да сливовицу на Угорском вине; то опять лакомит его, подает ему; оладьи с сытой, да греночик, да горошек-зобанец, да киселек клюквенный с медом, да тертую кашку с сочком с маковым, да мазулю…
Пироги сами режутся, сами кладутся прямо в рот, горошек-зобанец прыгает с блюда и прямо в рот, мазуля сама тянется из горшочка и капает прямо в рот; олуй сам пенится в кубок и льется прямо в рот.
Ива не успевает ни пережевывать, ни выпивать; хочет оттолкнуть руками, рук нет; хотел с досады стукнуть ногой, ног нет.
По горло полон Ива; нет сил, а пища так и лезет, а питье так и льется; тошно Иве.
Но вот идет к устам Ивы кубок, наполненный огнем, наклоняется, хочет уже литься, капает на язык; Ива отворачивает голову, катится со стула на пол, валится стол с яствой и посудой, звенят блюды и братины серебряные, стучит железная богатырская броня.
И Боярин, и Боярыня, и иерей, и Лазарь, и мамами все домовины крестятся, с ужасом отскакивают от Ивы, челядь бежит врозь; все уже рассказывают друг другу, творя молитвы, что нечистая сила и богатыря обратила в камень.
Лазарь, шатаясь, подошел к баричу, наклонился, выпучив очи, посмотрел ему в лицо, хотел что-то сказать: язык не говорит; хотел приподняться: спина не разгибается, а ноги подкашиваются; замутило доброго молодца – и он лежит без памяти подле барича.
На просторе храпит Ива Олелькович богатырским сном; подле него лежит на спине Лазарь; во сне ловит он по широкому полю отвязавшегося коня.
Проходит день, проходит ночь, наступает утро; просыпается Лазарь, протирает глаза, осматривается; пробуждается Ива Олелькович, протирает глаза, осматривается: никого нет, кроме Лазаря; в ногах опрокинутый стол, лежат куски и крохи хлеба, рыбы и мяса, рассыпана соль, опрокинуты братины, разлиты пиво и мед.
Приподнимается Ива. Поправляет шлем, смотрит на бок: тут ли меч? берет копье. «Коня!» – говорит он Лазарю, а у Лазаря полон рот пирога.
Вот герои идут вон из покоев, сходят с высокого крыльца; кони стоят привязаны.
Увидев витязей, домовины опять разбегаются по широкому двору и из-за углов смотрят – что будет.
Ива сел на коня; Лазарь на другого… Пустились долой с чужого двора.
VI
Если бы спросили меня читатели, по какому направлению пустился Ива Олелькович? вперед или назад? своротил в сторону или поехал прямо?.. Можно только сказать, что во время выезда его со двора Боярского светлое солнце сыпало лучи свои прямо в глаза ему; после того стало печь ему правый бок; потом, когда он проехал гору, левый; когда спустился с горы, опять правый; когда проехал лес, опять левый, и потом спину… Таким образом скачет мой богатырь на север, на юг, на запад, на восток; а его конюх Лазарь за ним хоботом; скачет через горы, бологи, холмы, леса, дебри, дубравы, боры, луга, болони, бугры, поляны, реки, ручьи, потоки, города, городища, пригородки, посады, застенья, вежи, торги, станы, селы, селища, деревни, становища, скачет так же, как и в первый день, без отдыха, без устали.
Везде народ преследует его очами, как явление необыкновенное, как огненную змею, пролетающую ночью по небу. «То, верно, Гюрга», – говорят Бояры, купцы, торговцы, люди житые, селяне, огнищане, челядь, смерда и вся простая чадь. «То, верно, Гюрга на белом коне со своим оружником».