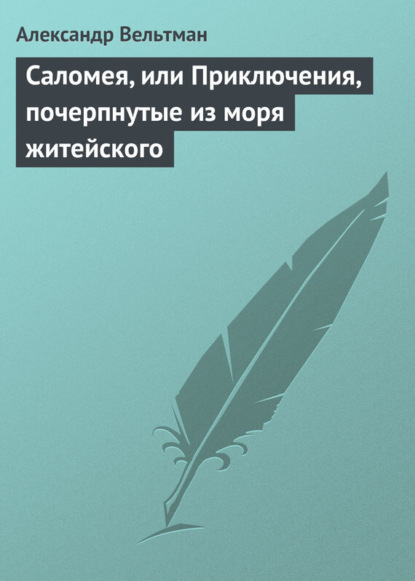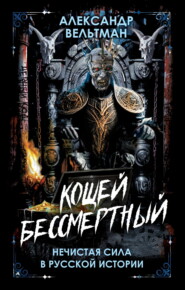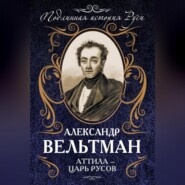По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
Автор
Год написания книги
1848
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, оставь их, пожалуйста!
Таким образом, забытые всеми два существа, казалось, были в упоении чувств, которому невозможно было не позавидовать. Казалось, что их долгое молчание было предвестником решительной минуты.
Софи вздохнула, грудь ее взволнована, взор поник, глаза закрылись, душе хотелось забыться навек в очаровании мелькнувшей мысли, но глубокий вздох повторился и напомнил, что это мечта.
Еще глубже вздохнул задумавшийся подле нее Рамирский. Это был он. Не зная, чем заглушить в себе любовь, он решился жениться и жениться скорей. Молодой человек, наследник тысячи душ – клад для семейных соседей. Его ищут. Случайно или не случайно, но Рамирский скоро познакомился с одним из соседей; приехал по зову в гости, взглянул на младшую дочь его, Софью, в счастливую минуту, когда она была необыкновенно мила, одета к лицу и сверх того так очаровательно смутилась при неожиданном появлении прекрасного соседа, – и выбор был сделан. Хорошенькая Софи, несмотря на черные, пылкие глазки, была романическое, мечтательное, изнеженное маменькой существо, – существо, любившее поэзию, вдохновение, очарования, восторг души, новые наряды, с чаем пуховые бисквиты, за обедом желе или безе. Все сердечные жалобы в стихах она выписывала в особую тетрадку и знала наизусть.
Старшая сестра ее, Надина, была существо совсем другого рода, без увлечений, без радостного взора, без радушной улыбки. Обе они были плоды одного дерева, но одна в отца, другая в мать; в них был один и тот же не совсем приятный климат, но Софи выражала собой ясную погоду, а Надина пасмурную. Очень естественно, что первая более нравилась. Светлый взор Софи, при каких-нибудь двух-трех градусах сердечного тепла, обманул и прозябшего от страданий Рамирского.
Сосед понял его намерение, запоил заветным вином; маменька двух невест закормила всем чем бог послал. Но в доме две невесты; Рамирский завидный жених – которую благоугодно будет ему взять за себя? Обе рядятся напоказ, обе что-то задумчивы. Софи, увлеченная общими отзывами о богатстве и достоинствах Рамирского, забыла о поэзии и никак не могла уступить сестре в желании обратить внимание на себя.
Самолюбие девушки торжествовало победу; за предпочтение, оказанное ей перед старшей сестрой, она платит готовностью отдать свою руку и сердце, а между тем в душе проявлялась какая-то грусть, воспоминание, и как будто что-то говорило: «Ах, это не он! В нем нисколько нет поэзии!» И вот, как, мы видели, Софи задумалась не вовремя. Поздняя дума как по мертвом память. Но судьба творит свое. В решительную минуту, зараженный думою Софи, задумался и Рамирский.
«Жениться без любви! Что я делаю!.. Нет!..» – сказал он сам себе.
В это время шаги прогуливающихся по комнатам послышались близ самой двери; Софи очнулась и сказала:
– Пойдемте в залу.
– Ах, да! Вы еще не показали мне своего альбома.
– Зачем вам… в другой раз.
– Нет, пожалуйста, теперь; теперь я в особенном расположении духа читать стихи, – сказал, вздохнув, Рамирский.
– Вы их терпеть не можете.
– Нет, право, что-то вдруг захотелось чего-нибудь поэтического.
– Смейтесь.
– Пожалуйста!
– Я сказала, что в другой раз.
– А мне хочется непременно теперь.
– Это странно!
– Ничего странного; я не встану с места, покуда не принесете альбома, – решительно сказал Рамирский.
– Какие вы скучные! – произнесла Софи, стараясь подавить в себе досаду.
– Скучен так скучен, каков есть, – отвечал довольно сурово Рамирский, вставая с места и выходя в залу.
– Ну, я пойду принесу.
– Не беспокойтесь!
– Тут нет никакого беспокойства! – отвечала Софи и нехотя пошла за альбомом. Она бы никогда не вздумала показывать его жениху своему, если б однажды, в разговоре об альбомах, сестра ее не воскликнула с искусным простодушием: – «А вы видели альбом Софи? Посмотрите, какой альбом, прелесть!»
– О чем вы задумались? – спросила Надина, проходя мимо Рамирского, который сел на диване подле столика, скрестил руки на груди и смотрел в потолок.
– Я задумался? Нисколько! – отвечал он.
– Ну, так мне показалось.
– Благодарю вас по крайней мере за участие, – сказал Рамирский, преследуя взорами Надину. – «Как она сегодня мила! – подумал он, – сколько в ее наружности достоинства и степенности!.. Она лучше сестры».
– Вот вам мой альбом! – сказала Софи, бросила его на столике перед Рамирским и пошла ходить с сестрой и гостьей по зале.
Рамирский, как будто еще не кончив думы, долго смотрел на бархатный переплет лежащего перед ним альбома, но, наконец, взял его и стал почти без всякого внимания перевертывать листы, исписанные пошлыми стихами и изрисованные неопытной кистью. Вдруг внимание его остановилось на заглавии: «Море». Это словно напомнило ему цветущую его юность и любимую стихию. Он читал:
«Как же мне описать вам море? Может быть, и лучше, что вы его не знаете. Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него: то нежное, то страстное, то коварно-тихое, то бурно-прекрасное, неистощимое в любви и дарах, необузданное в гневе, нескончаемое в обольщениях, невообразимое в разнообразии, всегда одно, но как будто не то же, всегда ненаглядное, увлекающее.
В тихий жаркий полдень, когда нет ни малейшего колебания в воздухе, когда нет ни одного облачка в лазурном эфире, оно смотрит на вас такими небесно-голубыми нежными очами, что вы бы пожелали утонуть в его взоре!..
Но в бурную осеннюю ночь, когда взыграют волны над глубиной его, когда среди мрака горят они фосфорическим светом, когда при блеске молнии черная влага клокочет, бушует, дробится, о! тогда каждый вал его – могила, каждый стон – голос смерти.
Минует гроза, прояснится светлое утро, сгоняя с неба последние тучи и, во сретение золотым лучам, которые, мешаясь в атмосфере с синевою воздуха, отражаются в воде чудным цветом яри, – море облекается в великолепную мантию, а свежий ветерок, волнуя его поверхность, убирает каждую струю серебряною бахромою блестящих брызгов… Подобное зрелище, кажется, может только присниться! Взор следит за каждою рождающеюся волною, которая копится, извивается, дробится, чтоб дать жизнь другим бесчисленным волнам. И это стройное движение, эта чудная гармония, этот священный язык природы проникает вас неописанным восторгом!
Настает вечер. Жаркий закат утопающего в море солнца сквозь лазурное небо кажется фиолетовым; пламенея огненною краснотою зари, он отражается в воде великолепным аметистом. Резвые струйки, как будто оправленные тонкими ободочками золота, волнуясь отливами обьяри, сочетаются неизъяснимою красотою с окрестными берегами и цветущими деревьями, как будто столпившимися вокруг поговорить сладким шепотом листьев с гармоническими перекатами волн. Какое сердце не сочувствует этой прелести?
Но как мне описать вам море? Об нем можно напоминать только тому, кто привык его любить».
– Это душа писала, а не перо! – сказал Рамирский. «Вспомните этого дивного великана, под сизыми крыльями туч, покрытого стальной бронею в алмазных искрах. Что за строгая, величественная красота!
Или море изумрудное, испещренное легкой эмалью белой пены…
Или в солнечный день, как будто покрытое золотой ризой бога…
Или в тихую лунную ночь, когда в него страстно смотрится полный месяц, когда, едва касаясь берегов, робкая незаметная волна чуть дышит…
А в пасмурную осень, когда воды и воздух принимают неопределенный цвет, проникающий сердце грустной думой, приходит на память мысль вдохновенного Дантэ, видевшего в туманной дали витание тоскующих теней, отрешенных от земли и не принятых небом…»
– Что вы там читаете с таким восторгом? – спросила Софи.
– Это так написано, с такой любовью, что мне кажется, собственные мои чувства вылиты на этот голубой листок! – проговорил Рамирский, не обращая внимания на вопрос Софи.
– Что такое? – спросила снова Софи, с чувством, несколько возмущенным его восторгом.
И она подошла к столу и повторила вопрос:
– Чем вы так восхищаетесь?
– «Морем!» – отвечал отрывисто Рамирский.
– Ах, не правда ли, прекрасно? Это писала одна дама, – сказала Надина.