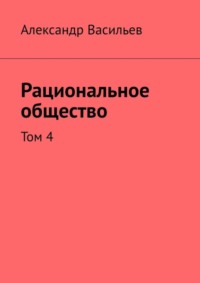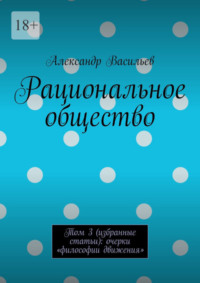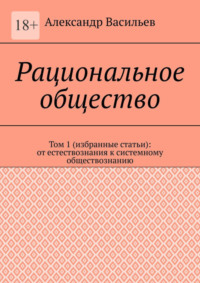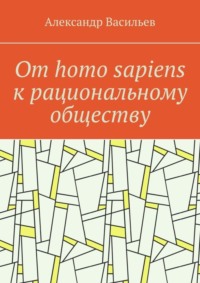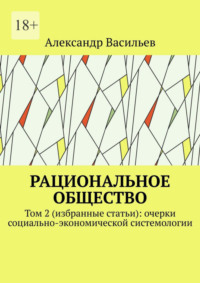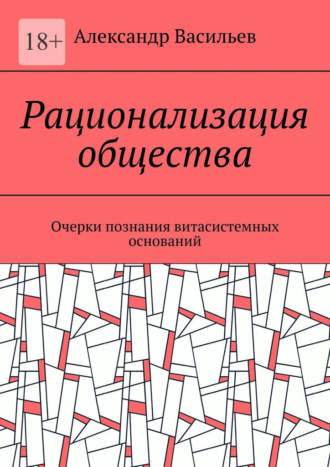
Рационализация общества. Очерки познания витасистемных оснований
В-третьих, учет неизбежной «Ограниченности ресурсов» на каждом этапе ·развития общественного производства. Мы говорим, например, о несметных природных богатствах, зная, однако, что это лишь образное выражение: богатства. природы далеко не безграничны. Но главное в том, что, решая любую плановую, хозяйственную задачу, мы можем оперировать в данный момент лишь ограниченным количеством ресурсов и, предназначая их для одной цели, неизбежно отнимаем от другой. <…>
Важно, решая любую частную (отраслевую) задачу, преследовать народнохозяйственные цели. Для этого-то критерий оптимальности данной задачи (локальный критерий) и должен быть согласован с общим, глобальным критерием, вытекать из него.
В капиталистическом мире такие соображения действуют только в пределах фирмы, концерна. У нас – в народном хозяйстве в целом. Вот в чем одно из принципиальных отличий теории оптимального функционирования социалистической экономики от различных буржуазных экономических теорий, которые тоже признают принцип ограниченности ресурсов.
В-четвертых, признание возможности и необходимости соизмерения потребительских благ с точки зрения того вклада, который они вносят в реализацию целей общества (или с точки зрения их общественной полезности). Этот тезис вытекает из того, что у общества есть цель, что при распределении ресурсов необходимо учитывать их ограниченность на данном этапе (в будущем они могут быть развиты и расширены, но тогда они тоже будут ограничены с точки зрения потребностей того этапа). Основываясь на положениях этой теории, советские экономисты-математики внесли ряд важных практических рекомендаций по совершенствованию системы планового управления народным хозяйством. Многие из этих рекомендаций уже внедрены в практику (например, в области экономической оценки новой техники и природных ресурсов). Это способствует повышению эффективности социалистического производства. В разработку теории оптимального функционирования внесли большой вклад советские экономисты и математики – лауреаты Ленинской премии академики Л. Канторович и В. Немчинов и профессор В. Новожилов, а также академики А. Аганбегян, Н. Федоренко, С. Шаталин, член-корреспондент АН СССР Н. Петраков, профессор А. Лурье».
Приведенная статья, несомненно, нуждается теперь в критическом переосмыслении и соответствующих корректировках, – в профессиональном сообществе. Здесь видится полезным, тем не менее, сделать одно замечание в части «глобальной цели экономики» и соответствующего критерия ее оптимизации. Из всей статьи и особенно по отсутствию указаний на методы определения «главной, глобальной цели развития экономики» и «глобального критерия оптимальности» (определенного в тексте, думается, известной «политэкономией социализма», – как партийным документом) видится отсутствие в тот период (60-е годы) фундаментальных, системных знаний о человеческом обществе как таковом и опора разработчиков на документы партии власти. Исходя из современных системных знаний, главной целью экономики, – как целенаправленного общественного Производства и Распределения, должна являться основная, актуальная в текущий и ближайший период общемирового развития совокупность основных параметров состояния общества, объективно необходимых по условиям общественного воспроизводства и развития общества, то есть его могущества во взаимодействиях с окружающим миром, мировым сообществом. Понятие общественного могущества следует считать центральным, фундаментальным понятием общественного сознания.
Надо остановиться также на важном замечании авторов указанной статьи:
«В капиталистическом мире такие соображения действуют только в пределах фирмы, концерна. У нас – в народном хозяйстве в целом. Вот в чем одно из принципиальных отличий теории оптимального функционирования социалистической экономики от различных буржуазных экономических теорий, которые тоже признают принцип ограниченности ресурсов».
В этом плане из многих других работ выделяется большое современное исследование американского ученого Курта Флекснера, как попытка разработки гуманитарной рационализации человеческого общества [17]. Ее необходимо рассматривать, конечно, отдельно, как научно важную и актуальную для современного периода общественного развития не только России, но и других стран. Здесь видится необходимым представить фрагмент из содержания, наиболее соответствующий рассматриваемой тематике:
Часть IV. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
13. Человечество как главный объект экономических целей и политики
Убеждения и ценностные суждения
Реалистическое использование индивидуальных и общественных прав
Три уровня участия в экономике
Рациональное участие как необходимое условие более гуманного общества
14. Социальные цели и рыночная экономика в просвещенном обществе
Пересмотр экономической теории в контексте целей и потребностей человека
Социальные цели и жизненная необходимость разработки комплексных планов и программ
Преимущество предвидения проблем и планирование мер по их предотвращению в рыночной экономике
Роль информации в демократическом обществе
15. Прагматичный подход к более гуманной экономике
Рациональный подход к целям и средствам их достижения
Рациональный подход к рыночной экономике
Рациональный подход к свободе, силе и власти
Человечность как основа деятельности общества, по улучшению условий жизни людей
Бывший Советский Союз в поисках эффективной гуманной экономики (вместо заключения)
Вступительные замечания
Переход от централизованной планируемой экономики к рыночной экономике
Уроки, которые необходимо извлечь из эволюции капитализма
Исходные условия для эффективной рыночной экономики
Необходимость нового периода реформ в России
Какую экономическую модель должна выбрать Россия?
Здесь полезно обратить внимание читателей и на взгляды известного ученого-публициста Н. Н. Моисеева в период «перестройки» СССР, России в конце 80-х – начале 90-х годов, в том числе взгляды на рационализацию общества в целом [18, – 2] (главы 14, 15). Автором уже цитировался, например, следующий взгляд:
«Употребляя термин «рациональное общество», я имею в виду общество, идущее в эпоху ноосферы (существующее в этой эпохе!), то есть целенаправленно стремящееся к формированию режима коэволюции человека и общества, способное направлять развитие Природы и общества, согласовывать эти процессы. Такая организация общественной жизни необходима, ибо только в этом случае человечество сможет избежать деградации и сохранить перспективу дальнейшего развития. Это желаемое общество, как я надеюсь, суть общества ближайших десятилетий. Говорить о нем в деталях трудно, тем более, что в разных регионах мира оно может иметь свои особенности. Однако в любом месте земного шара оно должно обладать рядом общих свойств, которые я постараюсь назвать.
Первое требование: способность обеспечивать раскрытие потенциала отдельной личности, ее таланта, ее интеллектуальных возможностей, ее воли. И это не благое пожелание, а суровая жизненная потребность. Человечеству уже в ближайшие десятилетия предстоит пройти через множество испытаний. И они будут тем успешнее преодолены, чем большее количество «личностей», обладающих необходимыми знаниями, проявят себя в «поисках пути»!
Этот и другие взгляды Н. Н. Моисеева, который все же адаптировал их по некоторым направлениям к рыночной парадигме, видятся во многом полезными для современного дискурса о «рациональном обществе», и не только, – с необходимым развитием согласно новым научным и практическим знаниям, – после великого уже тридцатилетнего опыта новой России. Поэтому монографию «Универсум. Информация. Общество», а также «Социализм и информатика» (в связи с сохраняющейся актуальностью идеи социализма) надо рекомендовать читателю к внимательному прочтению и изучению (с помощью современных интернет-библиотек).
Рассмотренная выше словарная статья по оптимизации вызвала у автора воспоминания о широко развернутой в СССР научно-практической работе (после 60-х годов) по рационализации и оптимизации техники и технологических процессов во всех отраслях народного хозяйства. Соответственно, здесь видится полезным остановиться на краткой предварительной типологизации общей рационализации (на взгляд автора, в первом приближении):
1. Научная, вненаучная (опытная, по традиции и т. п.). 2. Инструментальная, организационная: технологическая, программная, плановая, принципиально (системно) -алгоритмическая, парадигмальная. 3. Субъектно-целевая, корпоративно-целевая: производственная, экономическая, финансовая. 4. Общественно целесообразная. 5. Оптимизирующая (оптимальная), в т. ч. оптимизируемая рационализация, – как оптимизация самого ИТ-процесса (ввиду существенной включенности в процессы разума человека). 4-ая и 5-ая типологии рационализации, как показывает опыт общественного развития, должны включать не только научные (математические и прочие) средства оптимизации, но и предельно адекватные, высшие экспертные системы, – уместна системная аналогия с рефлексивной самоэкспертизой человека).
Из предыдущих системных исследований автора вспомнилась также не только техническая, но и организационная рационализация общественного производства в первые годы строительства социалистического общества, которая была развернута государственным руководством не только на основе европейского опыта, но и собственных научных исследований, особенно «организационной науки» А. Богданова (Малиновского) [19—21]. В предыдущих публикациях автором отмечалась также необходимость совершенствования, рационализации и системной оптимизации общего управления общественным развитием, на базе научного познания всеобщих системных закономерностей в природе, человеке и обществе, – с привлечением современной «Теории государственного управления» [22; 23]. Отмечалась также научно-философская работа в этом плане ведущего партийного ученого, академика В. Г. Афанасьева, который призывал к научному управлению обществом (не говоря, конечно, об общественной ущербности прошлого партийного управления, которая была хорошо видна) [24]. Теперь надо говорить уже, думается, о научно рациональном управлении, – посредством наиболее полных, выверенных знаний и адекватных экспертных систем (так же как сам человек успешно управляет своей наиболее сложной деятельностью).
Продолжая размышления по тематике данной статьи, на основе кратко изложенных выше сведений и соображений, авторских системных исследований общественного развития [2; 25; 26], видится целесообразным сделать следующее предварительное (для возможного дискурса), предельно краткое, тезисное обобщение.
С позиции «постоянного космического наблюдателя» (ПКН) можно видеть, что после космической и геотектонической, геофизической и геохимической организации земного движения, после образования, расширения и усложнения процессов жизни, можно сказать, начался глобальный земной процесс эволюционной оптимизации живых форм – организмов. Надо заметить, что А. Богданов в своей работе над «организационной наукой», Тектологией приступил, прежде всего, к изучению организационных процессов именно в живой природе, изучая достижения биологии, общего естествознания в тот период. Автор этих строк начал свои системные исследования с широко используемого в тот период коллективного труда немецких биологов под руководством Э. Либберта [27].
Так вот, теперь можно научно обоснованно заключить, что в эволюции живой природы происходили, в сущности, процессы оптимизации «организмов» (живых организаций, – термин автора), живых систем (общенаучный термин), живого движения (В. И. Вернадский), с «отбором» высоко оптимальных форм, – посредством естественных закономерностей, генетических и прочих, обеспечивающих множественно опережающее развитие этих форм. Автором были выделены (отчасти эвристически) основные функциональные (системные) комплексы, обеспечивающие оптимальность живых организаций по критерию их отбора в эволюции – «живучести» в изменяющихся условиях окружающей среды, во взаимодействиях. Эту оптимальность обеспечивают комплексы гомеостаза (функциональной инвариантности, – по выводу автора), адаптации, управления и программируемого развития (в терминах общей биологии, ставшими уже общенаучными).
В первых человеческих сообществах, общинах, в их естественном развитии мы видим (по этнографическим и прочим исследованиям) действие этих комплексов и процессы организации, естественной оптимизации, к которым быстро (в эвол. масштабе) подключились процессы разумного управления движениями, действиями и деятельностями человека в условиях общинной и наиболее развитой, – структурно-функционально, социальной жизнедеятельности.
Процессы, инициируемые и управляемые, развиваемые разумом человека, и объекты (предметы), новые процессы, создаваемые ими, принято называть искусственными. Так вот, переход от естественно-эволюционного развития человеческого общества к искусственно-историческому надо связать, на взгляд автора, с искусственным введением в общественное развитие, в бурно развивающиеся процессы обмена естественными и искусственными продуктами потребления искусственных средств, которые обладали свойствами длительного сохранения, физически малозатратного производства и накопления, и являлись универсальными эквивалентами ценности всех продуктов обмена, – по оценкам добытчиков-изготовителей и потребителей (вначале по количеству их, затем по знакам эквивалентности). Именно с этого перехода, с введения в общественное развитие так называемых денег, надо начинать системные исследования формирования и развития «экономического» мышления, затем «политэкономического» (на базе уже твердо установившегося и мощного рыночно-капиталистического развития Англии и других стран Европы) [26].
Здесь надо кратко обратить внимание на общее информационное развитие, которое вылилось в развитие культур, как инфо-комплексов общественной жизнедеятельности, и главное общественной науки (по всем специализированным направлениям) и междисциплинарного ее мега-уровня – так называемой (по традиции) философии, точнее научной философии (возвышенной научным познанием окружающего мира и самопознанием), – которая по многим известным причинам не достигла еще общественно рационального содержания, общественно рационального функционирования. Научное развитие общества можно обоснованно (системно рефлексивно) понимать как глобальную информационную рационализацию общества, которая активировала и организовала деятельность по рационализации всех общественно актуальных, в основном производственных, предприятий (организаций в различных сложившихся формах), в том числе собственных институтов, как информационных производств, – в сущности. С позиции ПКН можно видеть, что происходила, в сущности, доступная по средствам разума, – ассимилируемым из великого наследия и новым, функционирующим, – оптимизация – жизненно-организационная, экономическая (в действующих парадигмах и системах) и прочая, которая традиционно именовалась рационализацией (по основному ее средству). В современный период под общественной рационализацией надо понимать уже сугубо научную рационализацию, поскольку все процессы изменений, преобразований чего-либо в обществе осуществляются посредством разума и могут, при сравнительной оценке результатов, называться рационализацией, и лишь научная рационализация, использующая предельный объем знаний и предельно совершенную методологию (достигнутые развитием) является (в чем убеждает великий опыт) наиболее эффективной и общественно прогрессивной (при определенной организации научной деятельности, – см. историю и современные проблемы в этом плане).
Научная рационализация советской России и мега-общества СССР, – происходившая без научного ее осознания, под партийно-административным управлением и соответствующими программами и лозунгами «строительства коммунизма», но на базе фундаментальной парадигмы функционально целостного общества, по сути системно организованного, – в современном понимании, закономерно привела в итоге, к началу 80-х годов, к небывалой в мире социально-экономической, геополитически рациональной суперсистеме. Развернувшиеся в 70-е годы системные исследования (под влиянием успехов Запада в освоении системных и кибернетических закономерностей), к сожалению, не успели опередить и предотвратить известную деградацию партийного комплекса управления общественным развитием. Но, очевидно, и не смогли бы, поскольку управление наукой, научным развитием общества традиционно оставалось партийно-властным. Тем не менее, многие ученые оставили в научно-философском наследии множество общественно полезных работ. Автору удалось найти их (уже в эл. формате) и представить читателям, по ходу своих исследований и публикаций. Здесь видится полезным выделить из этого множества наиболее емкие работы: во-первых, можно сказать, пионеров системного исследования общества, – В. Г. Афанасьева [24] (и др.), Э. С. Маркаряна [28], а также монографии И. В. Прангишвили (бывшего директора ИПУ АН СССР и РАН) [29] и ведущего философа ИФ РАН Ю. М. Резника [30]. Множество остальных работ по системным исследованиям представлено автором в предыдущих публикациях. Все они, начиная, кстати, от указанной здесь обобщающей коллективной работы немецких ученых (70-х годов) по общей биологии [27] показывают фундаментальное значение системной организации в естественной живой природе, в человеке и обществе. Надо заметить, что и рассматриваемые здесь процессы рационализации (оптимизации) являются наиболее успешными (как показывает великий опыт) при системной их организованности, при системном исследовании объектов (предметов) рационализации, – как и все процессы успешной деятельности человека, производственных групп и больших организаций (корпораций).
Продолжая тему рационализации и оптимизации, надо заметить также, что цели этих разумных, интеллектуально-машинных уже процессов совпадают, – то, что рационализировано, может быть теперь (с обретением адекватных средств) и оптимизировано. Остается, однако, нерешенной давняя уже (наследуемая) проблема общественно адекватных экспертных систем, то есть использующих в качестве высших критериальных установок высшие общественные цели, – определяемые объективно действующими над обществом и каждым человеком законами и закономерностями, как со стороны природы, так и мирового сообщества. По авторским сведениям (из публикаций) эта общественно важная, многое определяющая в общественном развитии проблема формирования (академическим сообществом) высших экспертных систем видится уже предельно обостренной, усугубляемой к тому же общим, воспроизводственным интеллектуальным спадом в научно-философском сообществе. Пока что, – под давлением проблем общего и специального образования, Российской академии наук поручено организовать экспертизу учебников. Но действительно прогрессивные для общества знания, которые должны определять содержание учебников, несомненно, требуют опережающей экспертизы. В то же время, вопрос общественной прогрессивности знаний выдвигает на первое место для высшей академической экспертизы задачу предельной общественной рационализации (рефлексивной переработки, общественной оптимизации), – по высшим общественным целям предстоящего развития, фундаментальной парадигмы социально-экономического развития.
Думается, иерархическая структура экспертных систем, с межотраслевыми (междисциплинарными в научном плане) связями, должна выстраиваться сверху, со стороны академического сообщества. В вопросах «мышления о главном» (для общества, страны) оно, думается (как высшая функциональная структура общественного сознания, – здесь уместна системная аналогия с «высоко знающим» человеком) не должно ожидать решений и указаний от Власти (по традиции). Судя по публикациям, указанные системы могут быть сформированы, на базе интеграции высших, наследуемых и новых, системных знаний о человеческом обществе (фундаментальных знаний) и научно-историческом развитии России, СССР и новой России, Российской Федерации.
Современное функционирование научного сообщества определено известными «правилами» финансирования, поэтому видится необходимым инициировать их изменение, со стимулированием деятельностей по целям общественно рационального, целерационального функционирования всего научного сообщества России. Проблема научного, научно управляемого, – посредством экспертных систем, развития общества жестко связана, – как хорошо понятно, с коммуникацией ученых, которая ввиду смены парадигмы развития существенно деградировала по рыночным интересам и целям, и потому, несомненно, требует общественно целевой рационализации. В этом плане надо представить читателям коллективную монографию ведущих ученых [31] (с которой можно ознакомиться через указанные выше библиотеки).
Адекватного экспертного изучения требуют и современные ИТ-«прорывы» в развитии «финансовой экономики», – опять же и несомненно, со стороны высших экспертных систем. Эта экспертная деятельность, как уже хорошо понятно, особенно важна и остро актуальна в части именно политэкономического развития. С другой стороны, это развитие, несомненно, должно определяется наиболее полным научным самопознанием, то есть фундаментально научным, которое предстоит еще рационально организовать. И в этом главном Деле никак не обойтись без адекватной, наивысшей экспертной системы.
В плане финансового развития на первый план выдвигается, например (кроме прочего), экспертная задача по развитию так называемого «майнинга» международной криптовалюты, в связи с имеющейся (в теоретических исследованиях, еще с конца прошлого века) альтернативой – обоснований использования энерговалюты (которая может быть минимизирована по общественной стоимости (энергостоимости) до ничтожной величины). Общественную, экономическую рациональность энергостоимости, выражаемой внутренними и внешнеторговыми денежными (валютными) единицами, знаками, предварительно исследовали многие отечественные ученые и автор (в своих недавних публикациях) [26]. Возникает впечатление, что ведущие экономисты-финансисты не понимают фундаментального значения энергии и универсального ее носителя во всем общественном и общемировом «экономическом» и прочем целевом движении.
Возвращаясь к выдвинутой автором концепции «рационального общества», можно предложить теперь, на основании изложенного, следующую дефиницию:
«Рациональное общество» – это общество, в котором постоянно осуществляются предельно интеллектуальные и общественно целесообразные процессы рационализации и оптимизации в различных направлениях и масштабах, обеспечивающие необходимое и достаточное его могущество в окружающем мире.
Думается, приведенные выше сведения и суждения, и привлеченная научная литература, особенно непосредственно по тематике рационализации и оптимизации, рациональности общества, послужат развитию системного мышления в научно-философском сообществе о рациональном для России и ее содружества развитии в условиях существующего и прогнозируемого мирового сообщества.
Литература
1. Труфанов Д. О.: 1) Рациональность как предмет социологии // Вестник Томского государственного университета. 2018. №435. С. 94—107.; 2) Рациональность как фундаментальная характеристика социальных систем. Постнеклассический (универсумный) подход: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 124 с.
2. Васильев А. Рациональное общество. В 5-ти томах. Издательские технологии. 2022, 2023. URL: https://ridero.ru/books/racionalnoe_obshestvo/
3. Пружинин Б. И. Рациональность и историческое единство научного знания. М., 1986.
4. Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность / отв. ред. В. А. Лекторский. М.: Наука, 1988.
5. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. М.: Политиздат, 1991. 367 с.
6. Исторические типы рациональности / Отв. ред. В. А. Лекторский. Т.1. М., 1995. 350 с.
7. Рациональность как предмет философского исследования / Отв. ред.: Б. И. Пружинин, В. С. Швырев. М., 1995. 225 с.
8. Федотова В. Г.: 1) Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с.; 2) Хорошее общество. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества / под ред. В. Г. Федотовой. М.: ИФ РАН, 2003. 183 с.
9. Порус В. Н. Рациональность, наука, культура. М., 2002. 273 с.
10. Мораль и рациональность / Отв. ред. Р. Г. Аnресян. М., 1995.
11. Рациональность и её границы: Материалы международной научной конференции «Рациональность и её границы» в рамках заседания Международного института философии в Москве (15—18 сентября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.: А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский. М.: ИФРАН, 2012. 233 с.
12. Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. (Ernest Gellner. Reason and culture. The historic role of rationality and rationalism. Blackwell. Oxford UK & Cambridge USA, 1992). M.: Московская школа политических исследований, 2003. 252 с.