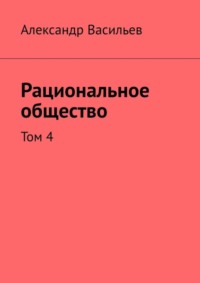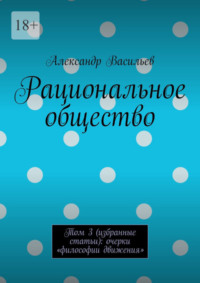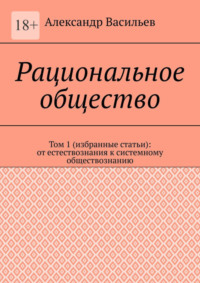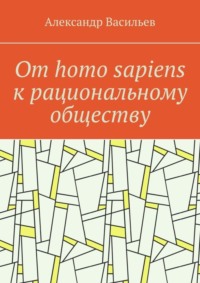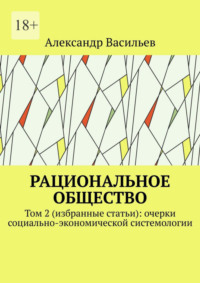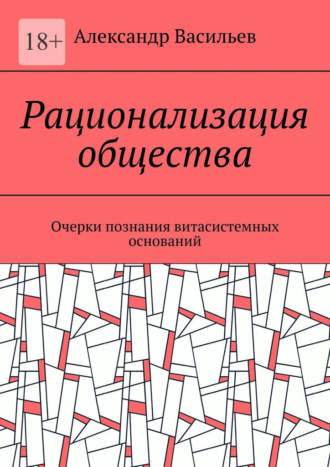
Рационализация общества. Очерки познания витасистемных оснований
Надо сказать, таким образом, что должно рассматриваться, научно-философски анализироваться и само понятие рациональности, обретающее в современный период статус социально фундаментальной категории. Актуальность размышлений Б. И. Пружинина в современный период обостряется ростом внутренних и внешних проблем не только России, но и других стран. Здесь надо привести в этом плане еще одну цитату:
«В активе разума теперь не воображаемые возможности, но вся мощь действительно созданной на его базе технической цивилизации – то реальное качество жизни цивилизованного человека, от которого не решаются отказаться даже самые решительные критики этой цивилизации. Однако и то, что противостоит сегодня разуму, – не вера, пусть даже самая фанатичная, и не суеверие, пусть даже самое темное, но кошмары атомной угрозы, безумие экологического кризиса, пугающая непредсказуемость различного рода революций – зеленых, сексуальных, демографических… Но самое главное заключается в том, что разум является инициатором всех этих процессов, как позитивных (что вполне соoбразовывалось с ожиданиями), так и негативных (что позволяет сегодня квалифицировать соответствующие ожидания как „просвещенческую иллюзию“). Именно разум привел в движение силы, с которыми, как оказалось, он сам не в состоянии справиться».
Здесь надо конкретизировать: речь должна идти о разуме общества, – как функционально целостной социотехнической организации (объективно требуемой), – следовательно, о его организованности и уровне общественной адекватности, то есть о рациональности общества в целом! Эта актуальная тема и рассматривалась автором этих строк в последние годы, и предлагается здесь, соответственно предыдущим публикациям, в качестве дискурса. Но рассмотрим это ниже.
Далее Б. И. Пружинин затрагивает понятие оптимальности, – в части знаний, тесно связанное с научной рациональностью, – что, думается, не требует пояснений. И отмечает предварительно математическое мышление, родившее в общественном сознании понятие рациональности в рефлексии над опытом и в отражении окружающего мира. Через многие века это понятие будет развито применительно к социально-экономическому развитию общества, в исследованиях и рассуждениях Макса Вебера о рациональности «хозяйственной» деятельности, о «капиталистической» рациональности [13]. Выделим здесь наиболее важные для рассматриваемой тематики фразы Б. И. Пружинина:
«Очевидно, употребление термина «рациональный» в математике является не только более древним, но и более фундаментальным, чем его объектно-гносеологическое приложение – последнее связано лишь с математизацией науки Нового времени. Поэтому неудивительно, что и в последнем случае ясно проступала смысловая соотнесенность этого термина с упорядочивающими и артикулирующими способностями разума. И даже когда речь заходила о рациональности мира, никаких иных свойств мира, кроме его логической представимости (интеллигибельности), не предполагалось – рациональность мира означала лишь, что мир упорядочен настолько, что может быть представлен как логически артикулированное целое3. В веберовской концепции явственно проступило еще одно смысловое измерение рациональности – оптимальность (курсив – А. В.).
И далее (с. 127):
Специфика же рациональных форм организации деятельности как раз и обеспечивается разумом: объективно существующая возможность оптимально увязать цели и пути их достижения реализуется благодаря логической экспликации их связи и просчету логически возможного. <…>
Но дело в том, что суть веберовской концепции рациональности связана не с констатацией условий успешности деятельности вообще, а с противопоставлением рациональной организации хозяйственной жизни традиционному способу хозяйствовании, в котором, между прочим, цели и пути их достижения так же сообразовывались достаточно успешно. Противопоставление же это у М. Вебера проходит как раз по параметру оптимальности. Подчеркнуть данное обстоятельство тем более важно, что именно оптимальность логического сообразования целей и путей к ним в рациональных формах деятельности стала центральным пунктом проблематизации рациональности вообще. <…> Иными словами, логическая организация познавательного процесса не обеспечивает, и в принципе не может обеспечить оптимальность результатов познания. Рациональность знания как его логичность не совпадает с рациональностью знания как его оптимальностью. В этом обстоятельстве и содержатся истоки проблемы рациональности знания».
По тематике исследований М. Вебера видится полезным рассматривать и изучать, сопоставлять с другими, недавнюю исторически и политэкономически обобщающую работу А. А. Олейникова [14]. В рассматриваемом здесь плане он также затрагивает понятия рациональности и оптимальности в организации экономической деятельности страны. Например, в подразделе «Либерально-рыночная модель как угроза для экономической безопасности страны», с. 1018:
«Главный урок, очевидно, заключается в том, что, как справедливо отмечает д-р экон. наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова А. Пороховский, «любая рыночная модель реализуется под воздействием как экономических, так и неэкономических факторов. Причем, по мере возрастания сложности экономического развития той или иной страны роль неэкономических факторов возрастает, ибо рыночная модель экономики – это не самоцель, а средство повышения благосостояния людей и укрепления демократических принципов как в обществе в целом, так и во всех звеньях человеческой деятельности»*. Другими словами, главные факторы развития России с ее людскими, территориальными и природными ресурсами лежат «в политической плоскости, т. е. в способности и воле государства обеспечить распределение, использование и управление этими ресурсами в интересах всего общества и оптимальном сочетании личных, групповых и национальных интересов»** (подч. – А. В.).
В конце XX в. наш внутренний враг в лице либерала-западника предпринял новую контрреволюционную попытку провести в России западные реформы с единственной маниакальной целью: присоединить Россию к Западу, перекорежить все наше традиционное общество, насаждая силой здесь западный капитализм и западные порядки. Под прикрытием фальшивых лозунгов о свободе, братстве и демократии наши либералы-западники выступают в качестве борцов, но не за пресловутые «права человека», а за глобализацию американского образа жизни, за господство американского «культурного империализма», опирающегося на социокультурные факторы»
(ссылки: * Пороховский А. А. Вектор экономического развития. – М., 2002. – С. 159.
** Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. – М., 1997. – С. 113.).
И далее, в подразделе «Модель народного предприятия в России», С. 1098:
«Проблема выработки оптимальной модели предприятия постоянно привлекает внимание ученых. И это объясняется тем, что модель предприятия, адекватная данному национальному хозяйству, отражает народнохозяйственную модель, помогая понять соответствующие принципы функционирования всего хозяйства страны».
Рационализация и оптимизация как процессы роста потенциальных возможностей и действующего могущества общества
Рассмотрим, прежде всего, понятие оптимальности. Оно появилось и стало широко употребительным в науке, можно сказать, вслед за рациональностью в середине 20 века и считается, на взгляд автора, сугубо математическим понятием, связанным с научно-технической сферой, с конкретными производственными процессами, поскольку оптимизация профессионально осуществлялась именно математиками, посредством всеобщих и развиваемых методов оптимизации. Очевидно, по этой причине мы не находим (по авторским поискам) определения «оптимальности» не только в философских, но и в других словарях, даже в популярном экономико-математическом словаре [15]. В нем рассматриваются лишь методы (процессы) оптимизации. Но, словарь дает и следующие общественно актуальные определения, позволяющие, на взгляд автора, использовать данное понятие, совместно с понятием рациональности, первоначально в системных исследованиях общественного развития, а затем и в социально-экономических:
«Оптимальные оценки – иначе их называют д в о й с т в е н н ы м и оценками, объективно обусловленными оценками, разрешающими множителями, множителями Лагранжа, целым рядом других терминов. Математический смысл оценок поясняется в статье «Jlинейное программирование», а экономический – в статье «Объективно обусловленные (оптимальные) оценки. Эти оценки двойственной задачи обладают замечательными свойствами; они показывают, насколько возрастет (или уменьшится) целевая функция прямой задачи при увеличении (или уменьшении) запаса соответствующего вида ресурсов на единицу этого ресурса. ….».
Далее, словарь приводит:
«Оптимальность по Парето. Итальянский буржуазный экономист В. Парето более, полувека назад математически сформулировал один из самых распространенных критериев оптимальности, предназначенных для того, чтобы проверить, улучшает ли предложенное изменение в экономике общий уровень благосостояния (? – подч. А.В.).
Критерий Парето формулируется просто: «Следует считать, что любое изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением».
То есть улучшением благосостояния этих людей при неизменном состоянии других (по этому критерию – любой численности). В реальности может вычисляться лишь средний уровень благосостояний, выражаемый основными продуктами (общественного производства) потребления, но он совершенно не выражает уровень оптимальности состояния общества в целом (страны) относительно окружающего мира (как «средняя температура по больнице», – в популярном выражении, и многие средние величины в современной статистике). То есть критерий Парето надо считать лишь критерием социально ответственной деятельности экономически и политически элитных слоев общества. Далее словарь указывает действительно важные понятия для оптимизации человеческой и общественной жизнедеятельности:
«Оптимальное планирование – комплекс методов, позволяющих выбрать из многих возможных (альтернативных) вариантов плана или программы один оптимальный вариант, т. е. наилучший с точки зрения заданного критерия оптимальности и определенных ограничений. Оптимальное планирование на практике должно состоять в том, что плановые и экономические органы страны правильно и четко формулируют и детализируют цели экономической системы в целом и каждого ее звена; отбирают критерии оптимальности для всего комплекса задач планирования и решают его каждую задачу в отдельности оптимально, т. е. находя единственное наилучшее решение с учетом избранных критериев оптимальности. Однако, как много раз говорится в этом словаре, жизнь намного сложнее любой математической схемы. Использование методов оптимального планирования помогает принять правильные решения и планы, но не дает их в готовом виде, как иногда думают.
Оптимальное планирование основано на решении задач математического программирования, экономико-математическом моделировании, причем используются два вида моделей: модели объектов планирования и модели процессов планирования – информационные».
Здесь надо привести и второе, связанное определение, важное для системно-исторического рассмотрения оптимальности и рациональности применительно к общественному развитию в целом:
«Оптимизируемая система. Так при решении отраслевых задач оптимального планирования развития и размещения производства (а также некоторых других) определяется комплекс входящих в расчет объектов и связей с внешним миром, т. е. с народным хозяйством в целом. Обычно требуется серьезный анализ для правильного выделения оптимизируемой системы. Например, можно ли решать изолированно задачу размещения и развития угольной промышленности в стране? Да, такие задачи решаются. Но ясно, что их результаты будут ненадежны, пока мы их не свяжем с размещением и развитием газовой, нефтяной промышленности. Открытие нового крупного газового месторождения может сделать нецелесообразным строительство шахт, вполне выгодных с точки зрения отдельно взятой „угольной“ задачи. Поэтому оптимизация здесь может быть достигнута только в комплексе – как задача обеспечения страны топливом и энергией в целом. Для определения круга объектов, входящих в оптимизируемую систему, применяют следующее правило: при дальнейшем ее расширении не должны существенно изменяться выводы об эффективности объектов, входящих в нее. Это выясняется с помощью изучения реальных связей в народном хозяйстве и предварительных расчетов».
Надо заметить, что представленный словарь разрабатывался в переходный политэкономический период, поэтому он содержит многие соображения, основанные на исторически предшествующем целостном понимании общества и соответствующих задач оптимизации человеческой и общественной жизнедеятельности. Соответственно, надо рекомендовать его читателям для внимательного изучения.
Попытаемся далее предельно выяснить научно и общественно полезное понятие оптимальности и соотношение его с понятиями рациональности. Рассмотрим с этими целями «Новую философскую энциклопедию». Соответствующие статьи В. Н. Поруса, раскрывающие проблематику рациональности в философии и, следовательно, в современном мышлении о проблематике общественного развития, необходимо рассматривать и анализировать, конечно, отдельно, совместно с указанными к ней публикациями. Что касается оптимальности, то мы, к сожалению, не находим в них каких-либо рассуждений о связях рациональности с оптимальностью. Тем не менее, многие рассуждения указывающие целесообразность рационализации, можно сказать, содействуют мышлению о физической, социально-физической, системной сущности рационализации, то есть об оптимизации соответствующих объектов и процессов. Статьи и отдельные работы В. Н. Поруса, других отечественных философов и научная литература по оптимизации представляют нам историческую картину развития рационализации, ее достижений и возможностей дополнения ее, как сугубо разумной деятельности, новыми ИТ-средствами оптимизации. Рассмотрим это развитие ниже, системно, после важного в этом плане ознакомления со следующими фразами НФЭ (рекомендуется также предварительно ознакомиться не только со статьями В. Н. Поруса о рационализме и рациональности в НФЭ, но и с указанной выше литературой).
В статье А. С. Панарина «Рационализации процесс» выделим следующее:
«Процедуры модернизации сознания тщательно осмыслены М. Вебером, различающим четыре типа социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное. Рационализация может быть понята как вытеснение первыми двумя типами остальных. Т. о., процесс рационализации нацелен не только на неупорядоченную психологическую импульсивность, но и на традиционность, становящуюся главным объектом критики».
В этой и других фразах, связанных с прошлым философским осмыслением рационализации-модернизации, особенно в западной мысли, надо учитывать, что осуществлялось оно в условиях господства рыночно-капиталистических отношений, было детерминировано ими, то есть превалированием индивидуальных интересов и целей капиталистического развития. А в условиях известного перестроечного периода СССР и всего социалистического лагеря это мышление, мышление ведущих и приближенных к Власти философов и других ученых определялось совокупностью политэкономических, партийно-пропагандистских и прочих факторов, но главным образом, на взгляд автора, отсутствием в научно-философском сообществе единых фундаментальных знаний о человеческом обществе как таковом. Об этом как раз и говорят многие статьи НФЭ, и особенно многие публикации постперестроечного периода. В этом плане полезно обратить внимание и на следующий фрагмент рассматриваемой статьи НФЭ:
«Что касается рационализации общественных отношений и практик, то европейская традиция содержит две ее модели. Первая, тоталитарная, появившаяся в социальной механике Т. Мора и Т. Кампанеллы, получила рафинированную философскую форму у Г. В. Ф. Гегеля и реализовалась в марксистском проекте. Эта модель приписывает иррациональность индивидуальному началу и связывает процесс рационализации со всеупорядочивающей деятельностью государства, назначение которого – преодолеть анархию общественной и личной жизни, подчинив их вездесущему рациональному планированию. Вторая, либеральная модель, напротив, находит источники иррационального как раз в надындивидуальных структурах, порождающих ложные цели и связанные с ними ненужную жертвенность и коллективную расточительность. Т. о., две модели рационализации в философском отношении восходят к оппозиции номинализм – реализм. Тоталитарная модель процесса рационализации основывается на презумпциях реализма, т. е. приписывает рациональность общему, а иррациональность индивидуальному, либеральная модель – наоборот.
Кажется, многие трагедии европейской культуры (и культур, следующих ее эталонам) связаны с неспособностью выйти за пределы жестких дихотомий процесса рационализации и уяснить, что экономическая и социальная, коллективная и индивидуальная рациональность связаны отношениями дополнительности: рационализацию невозможно обеспечить на путях рыночного или антирыночного, индивидуалистского или коллективистского «монизма». Иными словами, процесс рационализации следует понимать именно как процесс, требующий перманентных творческих усилий, неустанной балансировки разнородных начал; ни в каком «автоматическом» режиме следования какой-либо модели или системе правил он не достижим. Этот вывод может быть представлен как экспликация теоремы К. Гёделя о принципиальной неполноте формальных систем. Европейский миф о завершении процесса рационализации как «конце истории», нашедший свое выражение в двух великих учениях – марксистском и либеральном, может быть понят как симптом ослабления потенциала культуры, уходящей от риска перманентного творчества».
Приведенные фразы, как и прочие, направляющие мышление на системное рассмотрение целей рационализации и оптимизации, и общественной сути «модернизации», современных возможностей оптимизации с использованием имеющихся ИТ-средств и новых достижений в самопознании, – дополнительно к наследуемым, следует рассматривать и обсуждать, конечно, отдельно. Здесь надо обратить внимание пока на главное. К удивлению автора, определение оптимальности обнаружилось в небольшом толковом математическом словаре [16].
«ОПТИМАЛЬНОСТЬ – ж. Качество, определяющее процесс (алгоритм, метод решения и т. п.), лучше удовлетворяющий требованиям заданного критерия, чем другие процессы из заданной совокупности».
Однако, как хорошо известно, оптимальным может быть не только процесс, но любой объект, предмет исследования, анализа или/и проектирования, являющийся в высшей (достигаемой) степени соответствующим критериям и прочим условиям оптимальности во взаимосвязях и взаимодействиях с другими объектами и процессами, т. е. соответствующим параметрам их состояния (предвидимого, проектируемого), как целям-средствам достижения высших целей. Очевидно, таким образом, – в первом приближении, и можно определить оптимальность, как высшую, достигаемую степень соответствия критериям и так далее. Однако, неточность словарного определения, можно сказать, подсказывает, что научно правильнее определить первоначально оптимизацию, как процесс наивысшей рационализации, заключающийся в дополнительном использовании специальных научных и ИТ-средств (матем. методов оптимизации, машинного моделирования и пр.). Этот процесс включает и рационализацию (оптимизацию) оптимизируемого объекта (процесса) как средства достижения более высоких (общественных целей). Соответственно, мы сразу вспоминаем целерациональность, ценностную рациональность Вебера, – думается, в меркантильном понимании, соответственно возвеличиванию Вебером меркантильности в исследованиях им рационализации «хозяйственно-капиталистической» деятельности [13], которая по мыслям Б. И. Пружинина и выводам автора этих строк являлась в тот исторический период доступной по реальным возможностям оптимизацией указанной деятельности, но именно этой, субъектной деятельности, а не целевого самодвижения, целевой жизнедеятельности и самоорганизации общества в целом (взглядом с позиции «постоянного космического наблюдателя»).
При пересмотре популярного экономико-математического словаря [15] обнаружилась, – к большому удивлению, следующая статья в этом плане (с. 32). Ввиду полного соответствия ее рассматриваемой тематике и полезности для развития системного мышления по социально-экономической, общественной проблематике приведем ее в наиболее полном содержании:
«Теория оптимального функционирования социалистической экономики.
В середине 60-х годов Центральный экономико-математический институт АН СССР, перейдя к системному рассмотрению проблем планирования и совершенствования экономического механизма управления народным хозяйством, выдвинул понятие системы оптимального функционирования социалистической экономики (СОФЭ).
«В рамках этого понятия механизмы разработки и реализации плана рассматриваются в неразрывном единстве. Ставится цель создания и освоения спроектированной на основе современных научных принципов и обобщения накопленного опыта единой рациональной и эффективной системы управления экономикой», – писал в 1977 г. академик Н. П. Федоренко * (ссылка на: Федоренко Н. П. Оптимизация экономики. – М.: Наука, 1977.– с. 18.). Теория, или концепция, оптимального функционирования разрабатывается как научное, теоретическое обоснование этой системы.
Исследования, направленные на разработку теории СОФЭ, основываются на методологии марксизма-ленинизма. Для них характерны комплексный, системный подход к изучению экономики, сочетание качественного и количественного анализа хозяйственных процессов, широкое использование математических методов. Системный характер теории СОФЭ проявляется в том, что она не разделяет планирование, управление, стимулирование на отдельные дисциплины, а рассматривает их как единый неразрывный процесс. Например, одна из важнейших ее, категорий – оптимальные оценки. Они являются одновременно инструментом разработки плана и его выполнения, а также мерой стимулирования и ориентиром в принятии управленческих решений.
Особое место в разработке теории СОФЭ отводится принципу оптимальности. Он означает последовательный учет объективной цели общества и реальных средств ее достижения всегда, когда приходится принимать любое экономическое решение, на любом уровне управления народным хозяйством. Поэтому режим оптимального функционирования народного хозяйства – такой, при котором достигается наилучшее (оптимальное) использование всех ресурсов общества (природных, трудовых, производственных и т. д.) для достижения объективных целей этого общества. Такой режим принципиально возможен только в социалистической, централизованно планируемой экономике, где доминирует общественная собственность на средства производства.
Теория оптимального функционирования экономики предназначена для разработки путей и методов постепенного, поэтапного перехода нашего народного хозяйства на такой режим. Задача эта невиданных масштабов, в связи с ней приходится решать много сложных экономических проблем, подвергать критическому пересмотру ряд устоявшихся представлений экономической науки. Поэтому здесь идет процесс поисковых исследований, споров, диспутов, как и должно быть в настоящей науке.
Пока нельзя считать теорию оптимального функционирования социалистической экономики разработанной во всех деталях. Но на сегодняшнем уровне ее разработки можно считать устоявшимися следующие принципы.
Во-первых, рассмотрение экономики как очень сложной, динамической, вероятностной системы, причем такой, которая, в свою очередь, является подсистемой более общей социально-экономической системы. (Отсюда – связь экономических процессов с социальными). Важен тезис об иерархическом характере этой системы, т. е. о соподчиненности в ней одних звеньев другим. Он непосредственно выводится из сложности системы. Правильное понимание проблемы иерархичности – основа функционирования народного хозяйства на принципах демократического централизма: теория оптимального функционирования предусматривает весьма высокую степень самостоятельности и саморегулирования отдельных звеньев хозяйства.
Во-вторых, принципиальная необходимость определения главной, глобальной цели развития экономики и частных задач, решение которых либо вытекает из этой глобальной цели, либо определяет пути ее достижения. Степень достижения глобальной цели и есть общий, глобальный критерий оптимальности действия экономической системы. Без учета ее нельзя строить локальные критерии, т. е. критерии оптимальности частных задач. Для социалистической экономики глобальным критерием является устойчивый рост благосостояния и культурного уровня народа.