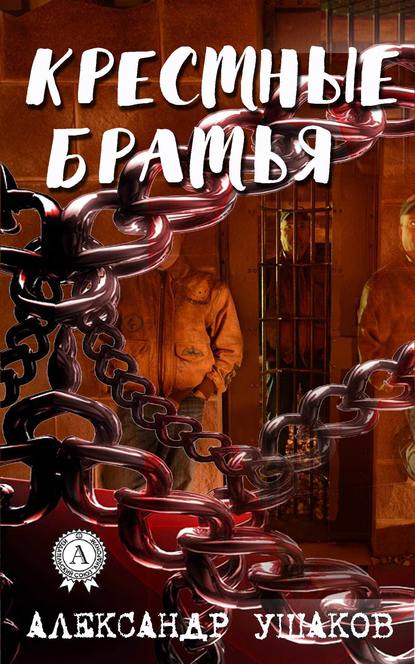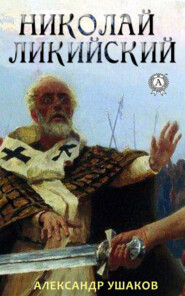По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Крестные братья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А так, – продолжал Кесарев, – рассказал бы, что тут у вас творится.
Он выпил еще одну рюмку и, зацепив вилкой маленький, упругий огурчик, покрытый микро-скопическими пупырышками, аппетитно похрус-тел им.
– Слишком многое, я смотрю, изменилось за это время.
Да, за прошедшие восемь лет много воды утекло. И крови. Сейчас в столице правили иные короли, и занять свое место под солнцем было нелегко. Даже Бесу…
Выслушав обстоятельный рассказ Битмана, Кесарев перевел разговор в другое русло.
– Ну а ты чем занимаешься? – налил он очередную порцию «Лимонной».
– Я, Толя, – усмехнулся оживившийся Битман, – стал в некотором роде банкиром! Владею небольшим частным банком… под контролем Креста, конечно! – поспешил помянуть он лидера своей группировки, которому уже уделил достаточно внимания в ходе беседы с Бесом. – И премного этим владением доволен!
Григорий Александрович еще долго рассказывал с интересом слушавшему его Бесу о своей жизни и даже похвастался сыном, который заканчивает аспирантуру экономического факультета Московского университета.
Спать они легли под утро, благо что Григорию Александровичу, превратившемуся благодаря демократии из шейлока в банкира, спешить на службу уже не было никакой необходимости. Начальство, как известно, не опаздывает…
Глава 7
Кесарев жил на тихой Суворовской улице в по-строенной в начале восьмидесятых годов двенадцатиэтажной башне.
Строго говоря, это была уже новая квартира, полученная матерью после слома ее дома на соседней улице, носившей нелепое название – улица Девятая рота.
Именно здесь, где Толя Кесарев много лет назад играл в футбол и в хоккей, когда-то маршировали бравые усачи девятой роты Преображенского полка. Возможно, и сам первый перестройщик не раз громыхал здесь своими ботфортами.
Из Сокольников Кесарев доехал до Преображенки на метро. Ему очень хотелось подойти к дому именно со стороны площади.
Купив у выхода из метро газеты и несколько роскошных букетов роз, он перешел на другую сторону.
Повернув к кинотеатру имени Моссовета (знаменитый «Орион», где в свое время собиралась вся преображенская и окрестная шпана, был давно сломан), он вдруг услышал, как его окликнули:
– Толя!
Это была Галька Назарова, с которой он учился в школе. Конечно, теперь уже не Галька, а Галина Михайловна, но… для Беса она навсегда осталась Галькой.
И эта неожиданная встреча несказанно обрадовала его. Он даже увидел в ней некое доброе предзнаменование.
Обняв когда-то любившую его пятидесятилетнюю женщину, он поцеловал ее и протянул ей розы.
– Да ты что, Толя? – На глазах Гальки блеснули слезы. – Не надо! Тебе ведь они, наверное, для дела нужны!
– Надо, Галька, еще как надо! – улыбнулся Кесарев, стараясь скрыть охватившее и его волнение. – А цветы для того и предназначены, чтобы дарить их женщинам!
– Сколько же мы не виделись, Толя? – спросила вдруг Назарова. – Десять? Двенадцать?
– Около того, – улыбнулся Кесарев.
– А ты… – нерешительно начала было она.
– Да, Галя, – не стал обманывать ее Кесарев. – Я только что вернулся из колонии.
Они помолчали, думая об одном и том же. Неисповедимы не только пути Господни…
– А как у тебя дела? – снова улыбнулся Кесарев.
– Все нормально, Толя, – как-то уж слишком быстро произнесла Назарова, и Кесарев понял, что до нормальности у Гальки, по всей видимости, далеко.
Жизнь у Гальки не сложилась. По-своему, конечно. Она очень долго не выходила замуж. И вы-шла только потому, что не выходить уже было нельзя. И до сих пор… любила его, Толю Кесарева, с которым когда-то целовалась в сквере. И пригласи он ее сейчас к себе…
Может быть, при других обстоятельствах он бы и пригласил. Но сегодня ему очень хотелось побыть одному. И он сказал:
– Заходи как-нибудь, Галя! Буду рад!
И по этому «как-нибудь» Галька поняла, что заходить ей к Кесареву не стоит.
– Зайду! – тем не менее жалко улыбнулась она.
Кесарев долго смотрел на ее все еще стройную удаляющуюся фигуру. Ему было грустно.
Войдя в квартиру, он сразу же открыл все окна и принялся за уборку. Именно об этом он почему-то мечтал последние месяцы перед освобождением. И теперь с удовольствием мыл, драил, протирал…
Часа через три Кесарев отправился в магазины, благо их только в его доме было целых пять. Вернулся он с полными сумками продуктов и в сопровождении трех молодцов из «Шарпа», где приобрел всевозможную технику. Потом расставил вазы с цветами. Все! Теперь можно было и отобедать.
Он пожарил в микроволновке цыплят и заставил весь стол всяческой вкуснятиной. Затем налил большую хрустальную рюмку «Лимонной».
– С новосельем, Толя! – поздравил он сам себя и с удовольствием выпил.
Пообедав, Кесарев сварил кофе и развалился на тахте. Давно он не испытывал такого наслаждения.
Потом принялся за газеты. Почти все они сообщали об убийствах на Лавочкина и Гастелло. И чего только не нагородили журналисты! И борьбу кланов и месть! А один дописался аж до ревности!
«Дурачки, – отбросил последнюю газету Кесарев, – все куда проще… Один продал, других наняли, третий… наказал… Вот и все…»
Ладно, черт с ними, пусть разбираются! Все равно не разберутся… Ему о другом надо думать. О будущем. Ведь, по сути, предстояло начать все сначала.
Что ж, и начнет… А ждут его впереди далеко не розы, благоухавшие сейчас в квартире, а пистолеты и автоматы (ножи теперь казались невинной детской игрушкой).
Добровольно никто ничего не даст… «Никогда ни у кого не просите… сами все дадут…» – вспомнил он Булгакова. И усмехнулся. Эх, Михал Афанасьич, Михал Афанасьич! Ни хрена никто не даст! Хоть проси, хоть не проси!
Да что там далеко ходить? Его отношения с тем же Крестом никогда не были особенно теплыми. Так чего же ожидать от него сейчас? Ведь как-никак он конкурент, а конкурентов никто не жа-лует…
Вторые же роли не для него! Не ему ходить под кем бы то ни было. Это однозначно.
Как бы ни сложилась его жизнь, но наследственность сказывалась. Талантливый отец, прекрасно воспитанная и образованная мать, привившая ему любовь к чтению… И даже тот… другой, с которым позже связала свою судьбу мать, был далеко не заурядным человеком…
Но жизнь сложилась именно так, как сложилась. И в сорок шесть лет он уже не поступит на факультет журналистики, о котором когда-то мечтал. Он вообще уже больше никуда не поступит.
«Дорога в жизни одна…» – вдруг вспомнил он песню своей молодости об оборванце, подравшемся с матросом «из-за пары распущенных кос».