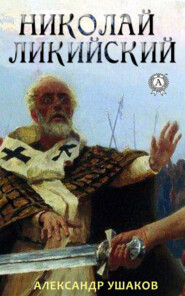По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никто не мог убедить Кемаля играть второстепенные роли, и, озлобленный на весь мир, он с мрачной решимостью говорил ничего не понимавшим в его странном поведении однокашникам:
– Они еще узнают, кем я буду!
Пребывая в те трудные для себя дни далеко не в самом лучшем расположении духа, он ссорился со всеми, кто только подворачивался ему под руку, и, обрекая себя на полное одиночество, продолжал жить обособленной от всех жизнью.
Да и зачем ему был кто-то нужен, если у него были книги и любимая математика.
А когда надоедало читать, он отправлялся гулять по Салоникам, любуясь великолепными памятниками римской и византийской архитектуры.
Это был крупный по тем временам город с населением более 150 тысяч человек, и большую часть его составляли бежавшие сюда еще в конце XV века из Испании от гонений Великого инквизитора Торквемады евреи.
Значительными по численности были общины греков и болгар.
Турок было всего 14 тысяч, приблизительно столько же было других мусульман: албанцев и так называемых дёнме – обращенных в ислам евреев.
И к великому удивлению Кемаля, те самые турки, к которым принадлежал и он сам, не только не процветали в Салониках, а находились в них на положении униженных и оскорбленных.
Разница была во всем.
В одежде, в жилищах, в манере вести себя.
И, попадая из центра города с его великолепной набережной, европейскими отелями и утопавшими в зелени особняками иностранцев в районы живших на окраинах мусульман, Кемаль видел огромную разницу.
Он с тоской смотрел на закутанных в паранджу женщин, однообразно и серо одетых мужчин и никак не мог понять, почему же и они не могут жить той же радостной и красивой жизнью, которая царила в немусульманских районах города.
Но еще больше поражало его презрение, с каким иностранцы обращались с его соотечественниками, унижая их везде, где только было можно.
Любой чиновник входил во дворец губернатора как на завоеванную территорию и всегда добивался того, чего хотел.
Кемаль с недоумением и обидой наблюдал за тем, как простой консульский курьер своей длинной палкой преграждал путь турецкому должностному лицу.
А что творилось в гавани, куда безо всякого на то разрешения заходили иностранные корабли и матросы с видом победителей разгуливали по городу.
Особенно безобразные сцены разыгрывались по вечерам, когда основательно подогретые вином иностранные моряки шатались по городу, задирая прохожих и приставая к женщинам.
И странное дело!
Все эти оскорбления Кемаль воспринимал так, словно они были направлены против него.
Однажды какой-то полупьяный матрос дал не успевшему уступить ему дорогу пожилому турку пощечину.
Кемаль не выдержал и кинулся на него.
От страшной расправы его спасло только чудо, поскольку с трудом сохранявший равновесие «морской волк» просто не смог догнать его.
Целый вечер бродил он по берегу моря, в сотый раз задаваясь вопросом, почему эти лощеные иноземцы ведут себя как победители и ни у кого из его соотечественников не возникает желания дать им достойный отпор.
Разве не достойны лучшей жизни они, завоевавшие пол-Европы и Африку?
Так почему же они пресмыкаются перед всеми этими французами и англичанами?
Кемаль вернулся в училище в плохом настроении, а потом целую неделю не выходил в город.
Надо полагать, что дело было не в какой-то особой его слабости и ранимости.
По всей видимости, в Кемале было нечто, идущее сверху, что каждый раз заставляло его душу болезненно сжиматься от обиды за таких же турок, каким он был и сам.
И это нечто усиливалось жившим в нем тем самым чувством высшей справедливости, которое заставляло его еще в школе всегда заступаться за слабых и беззащитных.
Возможно, именно тогда в наполненной обидой душе появлялись и крепли первые ростки того самого чувства, которое и принято называть национальным самосознанием.
Унижение себе подобных всегда порождает в душах избранных желание избавить их от этих страданий.
Да и в самом сострадании изначально заложена великая истина тайного знания, так или иначе освещавшего внутренний мир такого избранного.
И именно это тайное знание, в конце концов, зажигает в душах великих тот самый костер, который рано или поздно сжигает окружавшие их ветхие формы, а рождающаяся при этом мудрость постепенно складывает пока еще смутные контуры будущей жизни.
– Боль на кончине пальца чувствуется во всем теле, – говорил сам Кемаль, и эта фраза объясняет многое…
Глава II
Когда учеба в рюшдие подошла к концу, Кемаль еще раз больно ударил по чувствам матери.
Несмотря на то, что в Салониках имелся прекрасный военный лицей, он в 1996 году поступил в военную школу в находившемся на западной границе империи захолустном городишке Монастире.
Лепившийся по склонам гор провинциальный городишко из серого камня не шел ни в какое сравнение с великолепными Салониками.
И, тем не менее, Монастир был важным торговым, административным и военным центром.
Население имевшего около шестидесяти мечетей городка приближалось к 40 тысячам человек, и жившие в нем мусульмане в большинстве своем имели албанское и славянское происхождение.
Хватало в нем и занимавшихся торговлей греков.
Чего в городе не было, так это спокойствия, и расположенным здесь воинским частям то и дело приходилось сталкиваться с постоянно возмущенными болгарскими, македонскими, сербскими и греческими националистами.
А вот сама школа Кемалю понравилась.
Для полноценной учебы в ней были созданы все условия, и он справедливо считался самым передовым учебным заведением подобного типа во всей Османской империи.
Пройдут годы, и Мустафа Кемаль с большой теплотой будет вспоминать уроки истории, которые вел майор Мехмед Тевфик-бей.
А преподавать историю в те времена было в высшей степени опасно, поскольку империя переживала самое тяжелое время в своей истории.
Никто, включая даже самых высокопоставленных чиновников, не был защищен в ней от насилий, утраты имущества, свободы, а нередко и самой жизни.
Люди исчезали ночью, и не всегда было даже понятно, за что их брали.
В министерствах и ведомствах ряды чиновников редели буквально на глазах, а многие молодые офицеры армии и флота заплатили за свои либеральные убеждения жизнью.