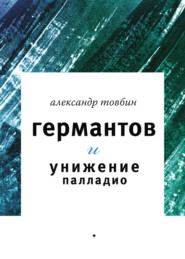По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
отце
(с учётом смутного недоумения сына)
Отец был изобретательнейшим ортопедом-хирургом, отца осаждали заплаканные мамаши, надеялись, верили в золотые руки, он и впрямь творил чудеса в операционной, прикованные к санаторным постелям дети его любили; как ласково он их осматривал, трепал по щекам, какие забавные истории сочинял… тут-то и наплывала ревность или что-то похожее на неё, как-то, играя у дверей лечебного кабинета, Илюша следил краем глаза за отцом: порывистым и находчивым, сильным, весёлым. И почему он превращался в сонную тетерю дома? Неужто надо было туго зашнуровать корсет, окаменеть в гипсе, чтобы отец обратил внимание?
за
манной кашей
Ветерок шевелит край скатерти.
Нелепо сдвинут с центра террасы большой пустой стол, на одном конце воробьи доклёвывают крошки, на другом – надо под руководством деда доедать кашу; дед взялся с выражением читать нудные рассказы Бианки… Проснувшись, выглядывает из окна мать: почитайте лучше «Светик-Семицветик», такая прелесть…
Утреннюю тишину истерически разрывает горн, ходячие пионеры из санатория вышагивают на пляж.
Блеклое небо сулит жару. Но пока прохладно. От земли тянет свежестью. Усыпанные влажными абрикосами деревья клонятся к балюстраде – протягивай руку, рви. И сюрприз: застрял в ветвях, равнодушно покачиваясь, синий воздушный шар… его освобождает дед, не сходя с террасы.
Сколько помнил себя Соснин, столько помнил великолепную каменную террасу, выдвинутую в сад, где сразу у замшелого цоколя и ближних стволов шуршали юркие ящерицы, где жались к рыжей ограде из ноздреватых блоков ракушечника колючие пропыленные кусты, чахлые деревца с мелкими, словно выкрашенными алюминиевой краской, сладковато-мучнистыми, вяжущими рот плодами. Соснин помнил все трещины, щербинки, оспинки, камни-окатыши на ступенях, застывшие в разливах цементного молока, уродливых пропорций балясины с подвижной рябью солнечных пятен, гипсовую вазу на углу, в которой пламенели настурции.
За вазой, над кустами, поигрывало бликами море.
невольные
утренние сомнения,
соблазны
Пустынный пляж нежился в тёплых лучах, бархатистую влажную полосу песка с заплывающими следами пальцев и пяток ещё не успели замусорить водоросли, выбрасываемые дневным волнением. Пульс зашлифованной стихии бился лишь в изгибистой кромке: обманчиво покорная, льнула к ногам, ласкала лёгким просолённым дыханием, хотя скрытая мощь её угадывалась даже в сгибах мягких голубых складок, непрестанно распадавшихся у ног искристой пеной.
Возился в песке у вспененной кромки, искал ракушкивеерки, а тайна билась совсем близко, под отблескивающей небом плёнкой. Симметрично-волнистыми, как на стиральной доске, грядками уходило в сумрачную глубину дно, плывучая бледная желтизна просвечивала меж бурыми чащами, порой от одной чащи к другой бочком перебегал краб. Дивная горная страна, окутанная водой, такой прозрачной… не верилось, что в ней, как говорил дед, растворены бессчётные тонны соли. Но именно в водной прозрачности и мерещился Соснину подвох. Не слишком ли просто – смотреть сквозь дразнящую блеском плёнку? Хотелось её отодрать, приподнять, чтобы увидеть что-то невообразимое, словно самоё море, волнуясь, прятало свою тайну под обманно-многоликой обёрткой; подгоняемый смутным желанием, неосознанно предвосхищал разоблачительный сюрреальный жест, спустя годы так его поразивший: мысленно приподымал глянцевый край обёртки…
все
опять в сборе
(случайные дневные этюды)
Однако налетал ветерок, сминал плёнку, и только что нежно-голубое, неотличимое от неба море синело, темнело… ветерок раскачивал лодки, буйки, учинял цветовую путаницу, колыхание бликов… ветерок усиливался, упруго давил, всё чаще тени облаков лизали прохладными языками, хотя становилось жарче – песок калился, пляж заполнялся: смех, плеск, шлепки по мячу – Нюся с Мариной были заядлыми волейболистками; попрыгал на одной ноге, вытряхивая из уха воду, побежал к ним, прихрамывая, не очень-то ловкий, со впалой курчавой грудью, Женя, так и не определивший до сих пор, какая из волейболисток нравилась ему больше.
Потешно менялись вчерашние гости!
В закатанных до колен штанах, с туфлями в руке прибредал из своего уединения Душский, ему махали, кричали, тут как раз вылезал из воды, натыкался на него Соркин. Куда подевалась солидность? – голубовато-белый, худой, как скелет, широкие длинные трусы повисли монументальными складками; Соркин с Душским прохаживались взад-вперёд вдоль прибоя.
– Григорий Аронович, вы обгорите, идите к нам! – звала из-под навеса мать; вокруг неё уже разлеглись почти все вчерашние герои, но вечные оппоненты не желали присоединяться, казалось, не слышали приглашений – топтались у воды, увлечённые беседой, словно забыли про свои застольные пикировки.
– Я согласен, многоуважаемый Леонид Исаевич, гниение, даже разрушение кости – не обязательно вызывается внешним воздействием, допускаю, патология костной ткани обуславливается психической травмой, однако… Что-то горячо доказывали друг другу, будто перемирие кончилось, возобновились прерванные на ночь баталии: Душский размахивал туфлёй, панамка, защищавшая плешь Соркина, съехала набекрень; из-под навеса следили за жестикуляцией спорщиков, давились со смеху, как на немой кинокомедии.
– Позвольте, позвольте, годы неумолимы, однако… – Соркин, замотавшись полотенцем, менял трусы.
– Всякое величие – ложное, его опрокинет и опровергнет время.
– Всякое? – переспрашивал Соркин.
– За вычетом взлётов искусства, времени не подвластного.
– Всемогущее время тушуется перед искусством, отпускает бразды? Вашими бы молитвами… – Соркин смешно подпрыгнул, чтобы ударившая волна не замочила трусы.
– Время не ограничивается круговым бегом стрелок по циферблату… – Душский рисовал прутиком на мокром песке какой-то ребус, – искусство, размыкая бытовой круг, воленс-ноленс вскрывает подоплёки инерционного хода вещей, отмечает своими памятниками противоречивость времени… Искусство побеждает, ибо исподволь впитывает дух времени, настаивается в годах-веках, будто бы вино в бочках, но время и искусство связаны взаимными обязательствами.
– Так-с, всесильное искусство, старясь, играючи побеждает время, хотя милостиво отдаёт ему должное, ставит памятники… зачем самому-то искусству сила?
– Чтобы открывать глаза, раскупоривать уши, желающим думать, чувствовать.
– Открывать и раскупоривать? Образами небесной гармонии?
– Конечно! Высоким образам нельзя не поверить.
– И из чего рождается на земле небесная образность? Поэт, к примеру…
– Душевную боль поэт претворяет вдохновением в песнь…
– Как претворяет? Говоря по чести, не понимаю!
– Многое на свете, друг Горацио, не снилось нашим…
– Сплоховали мудрецы всех времён, народов? С вас и взятки гладки? Леонид Исаевич, не увиливайте! Не знаете как, скажите – зачем претворяет, зачем…
– Повторю, если не расслышали! Чтобы песнь отозвалась болью… такой заряжающий, возвышающий болевой круговорот…
– Я, грешный, жду от искусства радости!
– Радость, даже восторг первого впечатления улетучиваются, восприятие, углубляясь, окрашивается другими эмоциями. И в жизни так… – любовная слепота, творческое озарение мимолётны. Долго ли трогают улыбка, музыкальный аккорд? А ласковые солнце, море, – Душский, позёвывая, нехотя вскинул худую руку с прутиком, дряблая грудь, животик вздрогнули… – сквозят внезапным ужасом.
– Мрачный взгляд! Я, как хотите, настаиваю – искусство постоянно радует, вдохновляет. Коллегу-профессора из провинции водил по Эрмитажу, задержались у Рубенса. Вечный телесный пир!
– Сожалею, безмятежность, показное жизнелюбие Рубенса обманчивы, Рубенс – жестокий художник!
– Почему же, милостивый Леонид Исаевич? Прикажете не верить глазам?
– Странный вопрос для клинициста, не чуждого летальным исходам! Пышная плоть загульных рубенсовских дам смертна, не так ли, Григорий Аронович? Выписывание плоти, алчущей наслаждений, означало выписывание тихой вечной трагедии. Телесный пир итожат горсточки тлена. Однако вечно искусство: тела по приговору времени истлели, картины живы.
– Мазня, которую скупаете у местного Левитана, тоже душу ранит и возвышает? Мазня переживёт своё время?
– Майн готт, майн готт… – съехидничал Душский, – мазне той, Григорий Аронович, не по рангу причинять душевную боль, осиливать время… мазню скупаю исключительно для сиюминутных радостей пациентов.
Соркин помолчал, проследил за медленным откатом волны.
– Всё знаете, Леонид Исаевич, а что такое время?