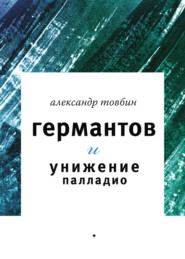По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
мёртвый
час,
озвученный
сценами
из
жизни
злого
двора
Чтобы поддержать детский организм, ослабленный чрезмерной для второклассника школьной нагрузкой и весенним авитаминозом, мать по совету профессора Соркина насильственно укладывала Соснина поспать после обеда. Как-то повезло, был канун майских праздников, только что вымытое окно, благо выдался тёплый денёк, осталось открытым; мать теряла бдительность, её мысли уносились в Крым, к морю.
Он притворялся, что спал, лежал с закрытыми глазами и слушал.
Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется…
Потом смех, тишина, подозрительно-долгая тишина.
И вдруг:
– Штандер! – срываясь, выкрикивал звонкий голос, и мяч упруго ударял об асфальт, раздавался визг, топот быстрых и лёгких ног… брызгало разбитое стекло.
Слушал и – видел.
Расколошматили снова подвальное окошко – оно почти касалось некрашеной рамой вздувшейся плитной отмостки с пучками свежих травинок в швах; в чёрном, будто пробоина от снаряда, зиянии угадывались очертания кабинета, в нём, оклеенном сиреневыми обоями с тощенькими букетиками, осенённом вырезанным из «Огонька» Сталиным в белом победном кителе, корпел над пухлыми конторскими книгами и вощёными жировками управдом Мирон Изральевич, прозванный синим языком за привычку слюнявить химический карандаш… Чтобы сберечь свою последнюю хрупкую защиту, Мирон Изральевич под звон стекла срывал очки и, близоруко щурясь, выбегал из подвала. Длинный, как каланча, качал носатой головой, рассеянно внимал виноватым охам и ахам дворничихи, которая шуршаще сметала в совок осколки. И мать с сочувственным любопытством высовывалась в окно по пояс, вздыхала, локоны, округлые плечи оглаживал солнечный блеск… а внизу, по пористому цоколю к разбитому окну неукротимо устремлялась меловая стрелка, над стрелкой было выведено старательным детским почерком: жид. Мирон Изральевич срывал очки ещё и для того, чтобы не замечать подлой стрелки и надписи? Жалея несчастного управдома, Соснин радовался, что притворился спящим, что никто ему не смог помешать увидеть всё, чем жил двор.
И вот уже обмозговывал задачу старичок-стекольщик, заморыш с плоским фанерным ящиком на брезентовом ремне, алмазным резцом, который выглядывал из нагрудного кармана мятой спецовки, карандашом за ухом, а – впервые подмеченная параллельность сюжетов? – на древний полосатый матрас с торчками прорвавших обивку спиральных пружин – едва пригревало, подростки выволакивали матрас из сарая с граблями и лопатами на огороженный грубым штакетником клочок подсохшей земли – усаживался по-турецки, перевернув козырьком на затылок кепку, старший сын дворничихи Олег.
Приход весны он имел обыкновение встречать громким и долгим – до закатных сумерек – концертом; Соснин предвкушал превращение жёлтой стены в оранжевую, мысленно смотрел на неё сквозь красное стёклышко.
Толкотня на матрасе, не поместившиеся восседают на куче шлака.
Острый запах немытых тел.
– Стар-р-р-рушка не спеша дор-р-рожку пер-р-решла, её остановил милица-а-анер-р, – с блатною хрипотцою распевался Олег.
– По улице ходила большая крокодила, она, она беременна была, – пытался перехватить вокальную инициативу, выскочив из-за мусорных бачков, безголосый Вовка, но Олег трескал брата по спине, цыкал.
Раздосадованная мать закрывала окно.
дворовый
Орфей
на
фоне
сермяжной родни
и младшего брата,
с
кулачищами, мелкими слабостями, проблесками запоздалого благородства
и
неожиданно
проклюнувшимися
математическими способностями
Два брата-дегенерата?
Нет, братья-то были сводные, от разных и безвестных отцов, а Олег, или Олежек, как его с ласковым подобострастием называли вассалы, не только статью отличался от озверелого уродца Вовки, прославившегося немотивированной жестокостью. Недаром тот быстро переквалифицировался из малолетнего сорви-головы в дворового хулигана, затем – в бандита, наводившего ужас на всю округу Кузнечного рынка; даже краткое обучение в ремеслухе Вовка посвятил исключительно отливке кастетов, вытачиванию ножей из напильников, не удивительно, что и сам плохо кончил, тогда как Олег… Соснин выносил в сумерках мусорное ведро, из-за помойки долетали приглушённые голоса, добродушные вполне переругивания, Соснин прижался к бачку:
– Накинь ещё, не жидься.
– Сколько? Пятак?
– Десятку.
– Х… на!
– Жуй два!
– Три соси!
– Четвёртый откуси!
– Сам пятым подавишься!
– Мандавошек захотел? Шестым отравишься!…
* * *
Азартная считалка затягивалась. О чём базарили?
Вдруг зажглось окно в первом этаже, блеснули разложенные на мятой промасленной тряпке лезвия: Вовка сбывал братве готовую продукцию, торговался. Ну а Олег… Олег Никитич, гордость показательной школы, переросшая в гордость отечественной науки, часто прикладывался кулаком к физиономии никчемного братца… Соснин опять выносил ведро на помойку. В освещённой дворницкой обедали, что-то выскребали ложками из алюминиевых мисок, Вовка внезапно вскочил, разорался, симулируя начало припадка, Олег так врезал…
Если бы зверёныш-Вовка с внешне благостным Олегом-Олежеком вообще не существовали, их бы стоило выдумать… Они словно были слеплены из материи будущих романов-воспоминаний, такая странность – продукты не столько своего времени, сколько памяти о нём.