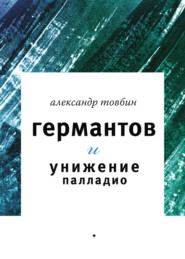По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
до
спонтанного
выбора
Соснина
Вообще-то о стилевых признаках барокко отец с матерью имели самые смутные представления.
Отец до хрящика знал лишь архитектуру скелета и строение костной ткани. Мать же слыхала что-то про застывшую музыку, но как именно она звучит в барочном исполнении, понятия не имела. Между тем отец с матерью согласно считали, – вернее, считала мать, отец присоединялся, – что благородная зодческая профессия специально для их отпрыска предназначена. Вот почему вопрос сына, на который они толково не смогли бы ответить, сладостно щипнул больную струну, ещё бы, сын сам потянулся к возвышенным материям, среди коих должно было возводиться его счастливое будущее.
Забавно ли, прискорбно, только вымечтанное будущее сына начало возводиться задолго до трамвайного вопроса, причём на двух зыбких – если не сказать сомнительных – предпосылках.
Во-первых, мать вдохновлялась романтичным образом и профессиональным примером дяди, того самого, упомянутого шёпотом Ильи Марковича: ты будешь архитектором, как дядя, – объявила она совсем маленькому Соснину – он с горящими ушами играл пожарной машиной. Объявила, хотя творческая судьба дяди не задалась, как впрочем, не задалась и вся его жизнь.
Во-вторых, красивые слова про застывшую музыку внушали матери веру в то, что сын, которому слон наступил на ухо, приобщится к волшебству звуковых гармоний благодаря окаменелым формам.
Короче говоря, едва ли не сразу после рождения сына выбор за него был сделан, если бы не бутылочки с искусственной смесью, можно было бы сказать, что потаённую мечту об архитектурном поприще, проявившуюся вдруг на фоне трамвайного впечатления, он всосал вместе с молоком матери… В том-то и фокус! О своих фортепианных триумфах мать мечтала как-то абстрактно, как дед о текстильном тресте, зато блистательное будущее Илюши, пусть и виноватого в том, что её собственные триумфы не состоялись, ей не терпелось приблизить, рассмотреть во всех чудесных деталях. А пока… Пока она спешила хотя бы уколами собственного воображения впрыскивать в тельце младенца понемножку голубой крови.
Тут-то вторая предпосылка сливалась с первой – голубая кровь, конечно, протекала в дядиных жилах.
легенда
(о Вайсверке-отце)
Следы далёких предков терялись на пыльных просёлках Малороссии, о тех же, что были поближе, рассуждали и фантазировали с охотой… Родовое дерево росло неказисто, с сучками, перекосами, однако ветвь Вайсверков, от которой отпочковался дядя, была живой, удачливой.
Способности, напористость помогли дядиному отцу, Марку Львовичу Вайсверку, перепрыгнуть черту оседлости, выучиться на доктора, и, выкрестившись, занять в столице видное положение. Энергичный эскулап отличился организацией полевых госпиталей в Мукденском сражении, в ходе которого и сам был ранен, правда, легко, затем – налаживал медицинскую службу при Ливадийском дворце, по его предписанию монарх участил прогулки по царской тропе, дабы совмещать любование красотами Тавриды с терапевтической пользой. И хотя с появлением при дворе Распутина позиции Марка Львовича пошатнулись, он продолжал пользовать важных вельмож, сановников, членов Государственного Совета… Задерживаясь в Русском музее у репинской картины с апоплексическими мужами в красных и голубых шёлковых лентах, Соснин гадал – кого именно?
Поводов для гаданий хватало.
Марк Львович был редкостно многогранный, но при этом скользкий, как угорь, тип. Близость к либералам – «Вестник Европы» печатал его статьи – не исключала симпатий к масонам и… тесного сотрудничества с «Новым временем», дружбы с издателем. Смех и грех – органично примирял в себе взгляды Стасюлевича и Суворина! А веротерпимость? Блюдя строго великий пост, он, однако, на Песах непременно выпивал сладкого вина, заедал выпечкой с изюмом, корицей, а через неделю разговлялся в Лавре, в трапезной Митрополита… – стопка ледяной водки, осетрина, блины с икрой.
Он, кстати, слыл утончённым ценителем гастрономического искусства, не только знал толк в кушаньях, сервировке, но и подготовил к печати породнивший гурманство с диетологией поваренный том, который, увы, так и не увидел свет. И вообще интересы его были куда шире успешной врачебной практики и условностей высокого, ко многому обязывавшего положения. После приёма больных, консилиума, он с наслаждением откладывал стетоскоп, с помощью костюмера-англичанина переодевался, чтобы помузицировать в квартете таких же усатых и бородатых, как он, господ. Осталось фото: острый, в дорогом сукне, локоть, цепкие пальцы, косящий в пюпитр карий глаз – Марк Львович истово глодал флейту, снежная манишка обвисла заткнутой за ворот салфеткой… Ко всему был домашним деспотом – все плясали под его дудку – и… жуиром с задатками синей бороды. Едва супруга, мать Ильи Марковича, умерла, по уши влюбился в молоденькую смолянку, однако и она… и не раз за венчанием случалось отпевание, не раз, а под конец жизни его сердце покорила модная упадническая певица, да тут и она скончалась, за гробом шёл весь Петербург… И при ответственной любвеобильности, трижды – или четырежды, авторы легенды запутались – узаконенной церковным обрядом, Марк Львович оставался завсегдатаем злачных мест, в стайке молодящихся павианов частенько мелькал на набережных Ривьеры, тем паче по случаю купил виллу в Ницце. О, он выгодно вкладывался в недвижимость, владел в Петербурге доходными домами, пересуды, эхо которых докатилось до наших дней, связывали его честное имя с афёрами вокруг строительства «Ласточкиного гнезда», оно ему даже принадлежало год-два; всякий раз очутившись близ эффектной скалы, с каменистой ли дороги, укачивавшей волны, Соснин едва ли не собственническим взглядом окидывал восхитительный птичий замок. Да, Марк Львович сделался героем светской хроники, если порыться в старых газетах, в «Санкт-Петербургских ведомостях» хотя бы, можно было бы уточнить подробности многих из сопровождавших его скандалов… Что ещё? Марк Львович, натура утончённая, обожал венский сецессион, был накоротке с Климтом, толкался в художественных салонах Парижа, ибо не спорил с веком – ценил всё новое, неожиданное в искусстве, стремился оказаться там, где творилась история. Удивительно ли, что он первым зааплодировал в зальце на бульваре Капуцинов, когда на ошеломлённых медам и месье поехал с экрана поезд?
итог
Судьба, как известно, иронизирует: лечивший всю жизнь сердечные болезни, Марк Львович умер от грудной жабы в своём особняке на Миллионной, загромождённом, как антикварная лавка, бронзой и александровским ампиром, увешанном дорогими картинами, дагерротипами; смотрел на пылавшие в камине поленья и…
История тоже не чурается горьковатой усмешки. Гнался за ветром перемен, а блаженства роковых минут не успел вкусить – умер в тринадцатом году, на пике имперского статистического благополучия.
И легко умер! В вольтеровском кресле, с «Новым временем» на коленях.
продолжение
легенды
(о Вайсверке-сыне, разностороннем паиньке, который приходился Соснину дядей)
Однако судьба Марка Львовича всего-навсего служила присказкой.
С неё лишь начинались полные многозначительных недомолвок истории, лепившие образ дяди; с годами его окутал загадочный ореол.
Перед Сосниным не стоял вопрос, с кого делать жизнь. Разумеется, с талантливого-усидчивого-рисовальщика-чертёжника-математика – если экзамен по математике грозил Соснину; со свободно владевшего иностранными языками – Соснин и одного не выучил толком; и уж конечно – с ценившего-понимавшего-музыку…
– Это наследственность, Марк Львович не расставался с инструментом, передалось, хотя не всем так везёт, – вздыхала мать, выдавая далее за высшую доблесть то, что дядя, занятый по горло делами в Риме, выкроил-таки время съездить в Милан, чтобы послушать Карузо… – педагогическое внушение вряд ли могло быть ослаблено тем прискорбным обстоятельством, что Карузо умер за несколько лет до эпохального появления в ложе «Ла Скалы» дяди… Переходя к доброму-заботливому-сыну, мать вздыхала особенно глубоко и хотя на подступах к опасным для детского слуха сюжетам дядиного жития педагогический пафос иссякал, дядя долго оставался в воображении племянника бесплотным паинькой.
Позднее пропитанные тайной завистью реплики, которыми обменивались отец с матерью, наложили на розовый портрет кое-какие тени.
Когда же рассаживались за праздничным столом родственники и под тосты дежурных балагуров-хохмачей, двоюродных братьев Яши и Миши – как тусклые, с бессчётными лишениями и унижениями, советские годы не вытравили из них весёлости? – опрокидывали рюмку-другую, развязывались обычно трусливые языки: везунчик-родившийся-в-рубашке-дамский-угодник-шалопай-форменный-светский-шалопай…
И: Илье Марковичу, конечно, выпала тяжёлая жизнь, очень жаль, очень жаль! Правда, в бедах своих во многом сам и был виноват… Как? Виноват в том, что случилась революция, всё пошло прахом? Нет, за революцию не он в ответе, ему, везунчику-угоднику-шалопаю, вести бы себя поосторожнее, не высовываться…
Ничуть не обращая внимания на ребёнка с ушками на макушке, Яша, бесцветный, узкоплечий конструктор тракторов с Кировского завода, и Миша, мастер по ремонту холодильного оборудования, инвалид двух войн, отморозивший ноги в боях с белофиннами, контуженный под Берлином… рассыпали фантастические в своей реалистичности подробности, которых хватило бы на добротнейший семейный роман; слушая Яшу с Мишей, казалось – вот они, дотошные очевидцы, всласть покуролесившие вместе с дядей в те порочные годы, вдобавок защищённые тем, что их красочные свидетельства некому подтвердить или опровергнуть.
Но подробности не уточняли, скорее размывали портрет.
Прояснялось лишь, что светлый лик дяди окутывал именно ореол, не нимб; дядя не был святым.
Получалось, что в отличие от Марка Львовича, тоже не ангела, тоже пожирателя удовольствий, Илья Маркович при ярких своих талантах и примерной усидчивости в профессии вовсе не преуспел, стал чуть ли не пустоцветом, так как сызмальства якшался с золотой молодёжью, завлекшей его – доверчивого, неопытного – в прожигание дней, хотя он – специально оговаривалось – не склонен был искать истину на дне стакана. Получалось, что дядя просто-напросто поддался дурному влиянию, переродился в кутилу, игрока, чуть ли не дуэлянта.
Вместе с совращавшими с праведного пути приятелями он мог затеять в ресторане потасовку на канделябрах или пальнуть револьвером в зеркало, сразу щедро расплатиться с напуганным пороховым дымом и дамским визгом хозяином заведения, потом пировать до рассвета в уютно выгороженном от нескромных глаз зальце, где обслуживали с особым подобострастием. Он денег не считал, был редкостным мотом, когда ездил за границу – ездил часто – купался в роскоши, быстро пустил состояние отца по ветру – что, впрочем, вышло предусмотрительно, всё равно бы большевики отняли, – и, само собой, играл на скачках, в рулетку, карты: в несусветный впадал в азарт! Яша с Мишею уверяли, что за утомительной ночной пулькой он как-то выиграл – везунчик! – у сказочно-богатого мецената, коллекционера произведений, породистую резвую лошадь с упряжью и, будучи подшофе, не умея править, едва не свалился с ватагой танцовщиц, которые набились в карету, с Троицкого моста.
Получалось также, что компании бездумной золотой молодёжи дяде быстро наскучили; будучи не только блестяще образованной, но и тонко чувствовавшей новое искусство – тоже наследственность по отцовской линии? – художественной натурой, он по праву вращался в высших кругах богемы, вернее, сам к ним принадлежал – дружил с поэтами-декадентами, был своим за кулисами… артисты души в нём не чаяли, после криков «бис», ещё в румянах и париках, зазывали к себе в уборные распить «Аи» среди цветов и зеркал… И словно отрезвлённый вздохом матери, прерывавшим в этом месте рассказ, дядя откланивался, дабы успеть в «Бродячую собаку», затем – на ночную съёмку; если Марк Львович принимал роды кинематографа, то Илья Маркович немало поспособствовал его взрослению, недаром к советам Ильи Марковича внимательно прислушивались создатели немых фильмов в длиннющих белых кашне и клетчатых кепи.
А связи с дягилевской труппой? Он сопровождал подвижное голенастое созвездие в тот сенсационный парижский сезон… И не только потому, что любил весёлую сутолоку бульваров, кортежи экипажей в аметистовых сумерках…
Почему же?
На то нашлась деликатная причина – у дяди якобы была на содержании молоденькая дягилевская балерина, злые языки болтали, что балерин было у дяди даже две, что он не стеснялся появляться с ними, сразу с двумя, на людях, ох уж эти головокружительные танцовщицы! – всё почему-то прощали Илье Марковичу восторженно-завистливые братья-сказители, всё-всё, но только не растленных жриц Терпсихоры.
Потом, что случилось с дядей? Потом, после революции?
Этот вопрос после памятной трамвайной поездки Соснин задавал не раз, но вразумительного ответа не получал. Тут-то и рвали биографию недомолвки, в разрывах толпились фигуры умолчания, заслоняя факты.
Минуты роковые настали и… – читалось в материнских вздохах – дядя был где-то далеко, возможно, что его вообще уже не было; и не в память ли о канувшем дяде досталось Соснину его имя?
особенности
её
любви
Справедливо ли допустить, что мать не любила сына? Нет, нет, ещё как любила! Но любила будто бы сверхсовершенную, сверхценную вещь, с которой надо сдувать пылинки, чтобы она, эта вещь, приносила постоянную радость. Если вещь своевольничала, выламываясь из идеала, лишая радости, звучали вздохи, укоры.
Такая любовь.
Больше всего на свете мать любила свою мечту о будущем сына.