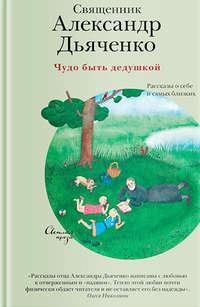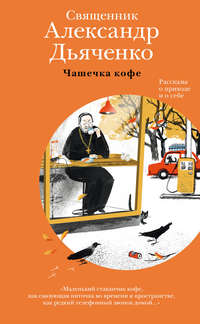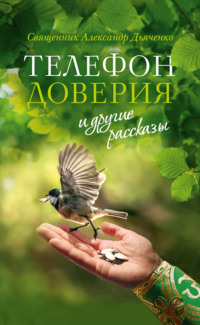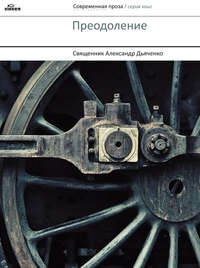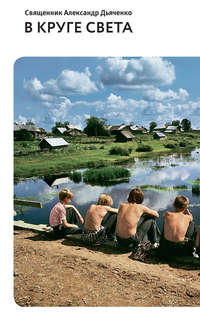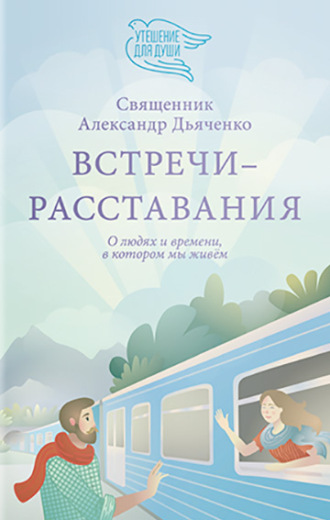
Встречи-расставания. О людях и времени, в котором мы живем
Поставила на плиту ковшик с молоком, а сама поспешила в ванную, перед сном нужно было хоть немного привести себя в порядок. Пока умывалась, забыла про молоко. А оно о себе напомнило громким шипением. Я всполошилась: молоко убежало! И бегом на кухню. На самом пороге поскользнулась и упала. Упала очень неудачно, с размаху ударившись об пол лицом, всей правой стороной. И тут же почувствовала острую боль в правой руке. Молоко выкипело. У меня синяк на пол-лица и боль в руке такая, что не притронуться. Кое-как поднялась, нашла телефон и звоню в скорую. «Машина только что уехала. Добирайтесь своим ходом». Собралась и пошла, благо медпункт от нас недалеко.
На скорой увидели мой синяк и отнеслись с подозрением: что, мол, успела отметить праздничек? Но принюхались и, убедившись, что спиртным от меня не пахнет, велели ждать машину. «Бригада вернется, и вами займутся». Рука болела нестерпимо. Я вышла на улицу. Когда испытываешь острую боль, зубную или от перелома, то интуитивно пытаешься заняться хоть чем-нибудь, лишь бы только не концентрироваться на источнике боли. Принялась ходить вокруг больнички в ожидании бригады скорой, и действительно стало казаться, что болит уже не так сильно. Хожу и вдруг замечаю человека, стоящего рядом со входом в больницу. В слабом свете фонаря разглядела только контуры его фигуры, лица же не было видно совсем. Но по тому, как эта фигура пыталась сохранить равновесие, я поняла, что человек изрядно выпивши. Пьяный молча наблюдал, как я нарезаю круги вокруг здания больницы, и наконец, в момент моего очередного приближения, приветствовал меня, стараясь быть как можно более вежливым:
– Здравствуй, сестра! Поздравляю тебя с праздником!
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – ответил мужчина и перекрестился. – Вот, собрался и решил пойти на кладбище.
– Так рано же еще.
– Все равно пойду. А хочешь, пойдем вместе. У меня еще есть. Вот, захватил с собой. – Достал из кармана бутылку и показал ее мне.
– Спасибо, брат. Я, видать, руку сломала. Вот хожу, чтобы не так болело, и жду машину скорой помощи.
– Понял. Пойду один.
– С Богом! Будь осторожен.
Человек махнул рукой и, не оборачиваясь, ушел в ночь.
А уже вскоре приехала машина скорой помощи, и меня увезли в районную больницу. Там по приезде сразу сделали снимок. Дежурный врач посмотрел, устало кивнув головой, произнес:
– Повезло вам, голубушка, сломать руку в такой праздник. Одна вы у нас в эту ночь с переломом на весь район. Хорошо еще, без смещения. Что же, – повернулся он в сторону медсестры, – давайте накладывать лангету.
Мне накладывают гипс, но боль в руке при этом не унимается ни на йоту. Я только и могу, что плакать и жалобно причитать:
– О, как больно! Пожалуйста, дайте мне спокойно умереть.
Домой к себе в поселок уже утром, по свету, я возвращалась на такси. Ехала и думала: как же так, Господи, что же это получается? Выходит, из всех живущих в нашем районе, а это, помимо дачников, семьдесят тысяч человек, я самая грешная? В такой-то день, а вернее, в ночь Светлого Христова Воскресения я, отстояв службу и причастившись Святых Христовых Таин, падаю у себя дома на кухне, ломаю руку и разбиваю лицо. Все наши кто отдыхает, кто продолжает праздновать, а я в страдании возвращаюсь домой. И еще неизвестно, когда эта боль наконец прекратится.
Получается, что я из всех-всех самая грешная? «Тогда покажи мне, в чем я грешна, и я покаюсь. Или Ты не любишь меня, Господи?» От одной этой мысли, что Он меня не любит, я начинала жалеть себя пуще прежнего и еще больше плакать. А как быть с работой? Долго ли хозяйка станет терпеть мое отсутствие на рабочем месте? Мы со сменщицей – пенсионеры, трудимся без официального оформления.
Вернулась домой. Сняла со стены иконочку почитаемого мной великомученика и целителя Пантелеимона, прижала ее к больной руке и прилегла на диване.
– Отче, святый Пантелеимоне, яви твою милость. Ничего больше не прошу, дай мне поспать.
Измученная бессонной ночью, несмотря на неутихающую боль в руке, заснула я мгновенно. Или лучше сказать, провалилась в сон. Проснулась уже после обеда. На удивление, рука у меня больше не болела.
Неделю проходила с гипсом. Место перелома меня не тревожило, потому я вышла на смену и даже приспособилась работать с рукой, закованной в гипс. Одно только не давало покоя – рука под гипсом сил не было, как зудела. И главное, почесать ее не было никакой возможности. Приспособилась забираться под гипсовую повязку длинной палочкой или карандашом, но помогало это ненадолго. С каждым днем зуд увеличивался все больше. Наконец я не выдержала и побежала в больницу, благо в хирургическом отделении медсестрой работала наша верующая женщина.
– Настя, помоги, сил нет терпеть. Зудит нестерпимо. Настя пошла мне навстречу и срезала гипс с намерением обработать руку и при необходимости вновь наложить лангету. На самом деле кожа на руке воспалилась и местами покрылась небольшими гнойничками.
Медсестра осмотрела место перелома, выспрашивая, где у меня болит и болит ли вообще.
– У тебя сохранился снимок? Захватила с собой? Очень хорошо. Дай я его посмотрю.
Настя смотрит снимок. Смотрит долго. Потом уходит и возвращается в кабинет вместе с врачом. Тот тоже рассматривает снимок.
– У вас нет перелома.
– Как это нет?! Болело так, что мне хотелось умереть, лишь бы больше не терпеть таких мучений.
– Но сейчас не болит?
– Нет.
– Вот и отлично, – продолжает доктор. – Гипс не накладывать. Руку еще пару дней смазывайте раствором фурацилина. Выходите на работу и ничего себе больше не придумывайте.
Прошло уже несколько лет, а я так и остаюсь в недоумении, что же произошло со мной в тот светлый день Христова Воскресения?
Чудо Великого поста (из рассказа Анны)
В моей жизни вспоминается случай, который я не могу объяснить никак по-иному, как только вмешательством Божьего промысла. Это произошло как раз перед началом Великого поста. Накануне у меня была очень большая нагрузка в художественном училище, где я преподавала технику рисунка. Устав, в том числе и физически, я ждала начала поста с затаенным желанием спокойно помолиться в храме, походить на службы, особенно в первую и последнюю недели. Обычно мечты так и оставались мечтами. В храме удавалось бывать лишь урывками и всякий раз воспринимать как удачу возможность причаститься в воскресный день.
А тут еще и дополнительная нагрузка на работе, пускай по объективным причинам, но легче от этого не становилось. При таких-то обстоятельствах надежда полноценно провести грядущий Великий пост должна была окончательно растаять, а она все еще почему-то оставалась.
В первый же день первой седмицы я проснулась, открыла глаза и от удивления открыла бы их еще больше, если бы могла. Картинка, в тот момент возникшая перед моим взором, была не такой, как обычно, когда наше зрение воспринимает окружающий мир во всей его полноте. Во всяком случае, в той полноте, на которую способно наше зрение. Моя картинка показывала мне мир таким, каким раньше мы воспринимали широкоформатное кино. Тем, кто не сталкивался с подобным явлением, предлагаю представить: вы ожидаете увидеть какой-то фильм во всю ширину экрана, а вынуждены смотреть его лишь в пространстве пускай широкой, но все же ограниченной сверху и снизу темным полем полосы. Вот со мной и произошло нечто подобное – мир для меня сузился в одну такую полосу, точно я веду танк и вынуждена смотреть на дорогу через узкую щель прибора. Но в танке это понятно, а вот так проснуться, открыть глаза и увидеть все окружающее сквозь узкую щелочку было, во-первых, очень странно, а во-вторых, очень страшно.
Что, если я сейчас вообще ослепну?! Естественно, я побежала не на работу в училище, а в поликлинику. Врачи, меня осмотревшие, не понимая причины моего заболевания, лишь глубоко вздыхали и в недоумении разводили руками:
– Может, все, что с вами случилось, – это результат переутомления?
В больнице мне не помогли, зато выдали больничный лист и отправили отдыхать.
– Будут изменения, приходите.
Сперва я отчаивалась и плакала, но потом смирилась и отправилась в церковь на службу. Никогда еще так много я не бывала на службах и так часто не причащалась. Пятьдесят дней я практически не смотрела телевизор, ничего не читала и не рисовала. Я только молилась, все больше своими словами, и ходила на службы. Постепенно исчезли сперва отчаяние, потом и чувство страха. Наступил покой и внутренняя уверенность, что еще немного – и зрение восстановится само, без вмешательства докторов. Именно с таким настроением и надеждой на чудесное исцеление я встречала праздник Пасхи.
Сегодня, когда с того времени прошло уже много лет, ничем, кроме как той самой непоколебимой уверенностью, возникшей во мне незадолго до начала Страстной седмицы, я не могу объяснить и последующие произошедшие со мной метаморфозы. Еще не закончились дни Светлой седмицы, когда все в храме подпевают на службах вслед за клиросом слова пасхальных стихир и потом еще ирмосы праздничного канона, а мое зрение практически полностью восстановилось. Мне уже немало лет, а я, в отличие от мужа, до сих пор не знаю, что такое очки.
Сегодня понимаю: Там слышны не только слова, но даже и не высказанные нами желания. Нас слышат и нам сочувствуют. Я очень устала. Мой ангел-хранитель – наверное, это был он – меня услышал, пожалел и подарил мне покой.
Скорая помощь (из рассказа Анны)
«Однажды у себя дома занималась обычными делами по хозяйству и, о чем-то размышляя, шла по коридору. Услышав звонок, поспешила к смартфону. Все еще находясь в своих мыслях, не заметила угол, не вписалась в него, споткнулась и, падая, пребольно ударилась головой о стенку. В результате – внушительного размера шишка на лбу и опухший глаз с огромным синяком вокруг.
Любой скажет: ну что же, бывает, дело житейское. Еще и добавит в утешение: ничего, до свадьбы заживет! До свадьбы, может, и заживет, только до свадьбы ждать еще очень долго, а завтра я должна идти на урок в школу. Как можно общаться педагогу с детьми, и тем более вести уроки, с таким лицом? Дети – существа особые, часто им не хватает элементарного сочувствия к тем, кто рядом и нуждается в нем. А тем более учитель. Представила, как немедленно стану объектом насмешек, и от отчаяния даже заплакала.
Не знаю, почему я поступила именно так, просто по какому-то наитию, схватила первую попавшую под руку икону (потом оказалось, что это был образ святого пророка Илии), приложила к лицу и горячо, как только могла, начала молиться. Помоги мне, Господи! Яви чудо! Утром встала и первым делом подошла к зеркалу. На лице никаких следов от вчерашнего падения – ни шишки, ни синяка».
Кстати, слушая Анну, я и сам вспомнил, как меня угораздило заболеть в понедельник прямо накануне Радоницы. Мне завтра служить литургию, а потом отправляться на весь день молиться на кладбище. Радоница – день особый. Все, кто в состоянии приехать, собираются вокруг дорогих их сердцу могилок. Ждут, когда появится батюшка и будет служить литию. Многие, кто не может в этот день прибыть на кладбище, заранее связываются со священником, переправляя списки имен, просят совершить литию в их отсутствие. И вот ситуация: завтра Радоница, а у меня тридцать восемь и семь. И больше ничего не остается, как только умолять о помощи.
Господи! Сделай что-нибудь. Ситуация ужасная. Как много людей будут разочарованы случившимся, а что-то изменить и решить проблему уже нет возможности. В этот день во всем благочинии не отыскать свободного священника, который бы не был задействован в собственном храме или где-то на кладбище. А результат очень похожий на то, что произошло с Анной, – утром проснулся, градусник под мышку. Температура тридцать шесть и шесть. За одну ночь я исцелился совершенно!
Молитва святителю Луке
Татьяна несет послушание в больничной часовне в честь святителя Луки, архиепископа Крымского. Часовня появилась у нас на территории поселка после того, как главный врач нашей больницы отказался поддержать предложение церковной общины открыть при больнице молитвенную комнату. Вдруг глава нашего поселка звонит и предлагает несколько мест на выбор, чтобы построить часовню, которая бы стала украшением поселка. Мы ухватились за это предложение, и спустя несколько лет в нашем поселке, как раз напротив зданий больницы и поликлиники, была построена большая красивая часовня. На внешней ее стене рядом со входом висит памятная табличка с именем того самого главы, который когда-то сделал все, чтобы она появилась на свет.
Каждую неделю мы служили в часовне и молились святителю Луке, известному хирургу и целителю. На службах собиралось немало тех, кто нуждался во врачебной помощи. Сперва они молились вместе с нами в часовне, а потом шли к врачам в поликлинику. Здесь же мы проводили соборование, причащали немощных и болящих. В благодарность за помощь, которую люди получали от святителя Луки, в часовню со временем были написаны образы и многих других христианских целителей, а позже появились частицы их святых мощей.
Татьяна, присутствуя на всех службах, что совершались в часовне, все больше проникалась доверием и любовью к святителю Луке. Нередко заходя в часовню во внеслужебное время, я заставал ее стоящей перед образом святого врача с каноном или акафистом и многочисленными списками имен больных.
Я знаю, будь у нее такая возможность, она бы вовсе не выходила из этой часовни, но, поскольку прожить на ту крошечную пенсию, которую она получает от государства, физически невозможно, Татьяна подрабатывала, убираясь в домах состоятельных людей. Иногда кто-нибудь из молодых родителей просил ее помочь присмотреть за детьми, часто в тех же домах, где она наводила порядок. Обычным ее рабочим днем был понедельник, поскольку понедельник мы объявляли выходным и часовня закрывалась.
В ту неделю, как обычно, Татьяна планировала убираться в коттедже, где проживала молодая семья из трех человек: папа, мама и мальчик Севочка. Севочка всего несколько месяцев как научился ходить самостоятельно и потому постоянно нуждался в присмотре. Ребенок, тем более мальчик, существо подвижное и совершенно неуправляемое, поглощал все мамино внимание, потому помощь Татьяны была для нее очень кстати. Она дорожила своей домработницей, женщиной ответственной и невероятно чистоплотной.
Забыл упомянуть, что со стороны мамы в их родне было немало поволжских немцев из числа тех, кто когда-то, еще при государыне Екатерине, переехал жить в Россию. Так что педантизм и аккуратность были у Татьяны в крови.
Однажды, узнав, что ее знакомый водитель собрался ехать в Муром, Татьяна попросила взять ее с собой. В Муроме проживает ее многочисленная родня, там же и могилки ее бабушки и дедушки. Заранее предупредив меня о том, что во вторник уезжает, Татьяна стала готовиться к поездке. Она все рассчитала. Поскольку водитель планирует поездку в Муром на вторник, то в понедельник она наведет порядок в доме своих работодателей, а на следующий день со спокойной совестью отправится навестить родных.
Вдруг, вопреки всем планам, ей звонит мама Севочки и просит на этой неделе перенести уборку на вторник. Понятно, Татьяна расстроилась, но, будучи человеком ответственным и неконфликтным, спорить не стала и во вторник отправилась на уборку. Хотя в душе Татьяна негодовала, внешне ничто не выдавало ее протеста. И вот что она потом мне рассказывала:
«Девять часов утра, я приступаю к работе. По просьбе хозяйки уборка начинается со второго этажа. Пока я разбираюсь с верхним этажом, она занимается с ребенком, кормит его, гуляет с ним. К тому времени, как ребенка нужно укладывать спать, я уже успеваю разобраться с верхом и готова спускаться вниз.
В этот злополучный день все начиналось как обычно. Я убралась на втором этаже и начала убираться внизу, а мама уложила малыша в кроватку. Ребенок уснул, мама на время освободилась и занялась своими делами. Неожиданно Севочка проснулся, никак о себе не заявляя, выбрался из кроватки и ринулся вниз по лестнице.
А дальше все случилось буквально во мгновение ока. Разбежавшись, ребенок не в состоянии остановиться. Ножки его подворачиваются, он со всего размаха летит вниз и бьется головкой об острый угол ступеньки. Все, что случилось, случилось на наших глазах. Мы видим ребенка, летящего по лестнице вниз головой, видим, как из раны начинает хлестать кровь, и слышим запоздалый Севочкин вопль.
А дальше произошло вот что. На самом деле никто из нас не знает, как он поступит в тех или иных обстоятельствах, пока в них не окажется. Вот и мама, растерявшись от увиденного, закричала и убежала в ужасе от вида растекающейся по полу лужицы крови. Тогда уже я, схватив чистое полотенце, подскочила к ребенку, подняла на руки и, зажав рану полотенцем, принялась молиться в голос, призывая на помощь святителя Луку. У меня не было никакого сомнения и никакого другого варианта, к кому бы я еще могла обратиться в эту минуту. Я привыкла молиться и просить помощи именно у него. Ток крови почти сразу же прекратился, видимо, прекратилась и боль, потому как Севочка перестал кричать. И только потом в комнату ворвалась мама. Увидев, что ребенок у меня на руках, не кричит, она трясущимися руками начинает набирать номер скорой помощи. От волнения у нее ничего не выходит. Тогда я предлагаю позвонить мужу. Она звонит супругу и просит его вызвать скорую.
В больнице Севочке обработали рану и наложили швы, удивляясь тому, что все сложилось так удачно и что скорая оказалась на месте и дитя не истекло кровью. Кстати, уже на следующий день ребенок, как будто ничего не случилось, занимался дома своими игрушками и вообще очень быстро пошел на поправку.
В тот день, закончив уборку, я, как обычно, пешком возвращалась домой и вдруг поняла: не случайно все произошло именно так. Не случайно вместо понедельника меня попросили прийти убираться во вторник.
Потому что во вторник должно было случиться именно то, что случилось. И где-то там уже заранее знали, что мама при виде крови растеряется и убежит из дому, а мальчик, оставшись без помощи, может истечь кровью. Получилось, что именно мне в критический момент Господь доверил беззащитного ребенка. А я еще противилась и негодовала от того, что сорвалась моя поездка в Муром».
Как только она это осознала, все в ней, в этой женщине с немецкими корнями, всегда такой внешне невозмутимо-спокойной, произошло одновременно – и слезы радости, и слезы покаяния.
Мистика
Аргуны
Часть перваяЯ давно собирался побывать в бывшем селе Аргуново и посмотреть тамошний Никольский храм. Правильно было бы сказать, что хотел взглянуть на то, что осталось от некогда знаменитого села, известного на всю Центральную Россию славными мастерами-плотниками, достигшими в своем деле подлинного совершенства. Их так и называли – аргуны. В самом Аргунове, ставшем центром целой волости, в середине девятнадцатого века соорудили на средства тех самых мастеров храм в честь святителя Николая.
Село, живущее на доходы от отхожего промысла в периоды, не связанные с сельхозработами, значительно обезлюдело, потому как мужики с парнями, собираясь в артели, уходили в города, подряжаясь на строительство домов. Порой возводили мастера-аргуны целые улицы. Но существовала у всех этих людей одна незыблемая традиция – собираться вместе и славить в своем храме Пасху Христову. Приходить старались заранее, подгадывали под Страстную седмицу. В крайнем случае, ну, это уж, как говорится, кровь из носу, чтобы быть у себя на родине в Великую Субботу. Попасть на ночную службу, обойти вокруг храма многолюдным крестным ходом. Потом, славя Господа, пройти внутрь и, присоединяясь к клиросным, вместе с ними петь пасхальные стихиры и праздничный канон. Как правило, число участников такого импровизированного хора достигало пятисот человек, а бывало, что и поболее. Когда все желающие присоединиться к поющим не помещались в самом храме, то пели и в пространстве под колокольней, и везде, где только могли примоститься, лишь бы их голоса могли слиться в единое могучее славление Творцу.
Здесь же рядом с храмом аргуны хоронили своих покойников. Народ в Аргунове жил зажиточно, потому и надгробия над могилами нередко делались из дорогого камня и даже из мрамора. Огромный храм с колокольней в три яруса, увенчанной большим позолоченным крестом. В ясную, безоблачную погоду золоченые кресты на храме так и сияли, отражая солнечные лучи.
Так когда-то и было. Но пришла новая эпоха, а время аргунов закончилось. Нет теперь на карте этого села. И храма нет. Советские власти взорвали Свято-Никольский храм, а взорвать колокольню у них почему-то не получилось. Почему? Кто их знает, может, просто руки не дошли. Вот и осталась стоять на высоком берегу реки Киржач одинокая колокольня, увенчанная золотым крестом. Уж сколько годов прошло, как положили золото на этот оставшийся одиноким крест, а цвет его совсем не померк, и уж больше века солнце продолжает отражаться на его перекладинах.
Много лет я живу поблизости от тех мест. Слыхал немало рассказов, как впечатлялись их природной красотой побывавшие там, где стояло некогда знаменитое на всю Россию село плотников-умельцев. Рассказывали и о сохранившейся колокольне с золотым крестом. Слышал, что будто кто-то даже пытался украсть этот крест, но ни у кого эта затея не выгорела.
И все мои собеседники в один голос советовали: батюшка, обязательно побывайте в Аргунове. Но я за все эти годы так туда и не доехал. И никогда бы я туда не попал, если бы к нам этим летом не собрались на каникулы наши внучки.
– Да, – сказала бабушка, – в Москве есть куда сходить и есть на что посмотреть. Но ни в каком большом городе нет того, что есть здесь у нас, в ста километрах от столицы. Вот это, что пока еще остается, им нужно увидеть и запомнить на всю предстоящую жизнь. И потом, чем больше времени они будут проводить в общении с нами, тем меньше станут просиживать в телефонах.
По этой причине мы с детьми и занялись краеведением, колеся по округе, посещая ближайшие храмы и монастыри. Между прочим, занятие как для малых, так и для старых очень интересное. Тогда-то я и вспомнил многочисленные рассказы про Аргуново.
Самое начало июня. Для поездки выбрали теплый солнечный день. Алиса, правда, ехать отказалась и, сославшись на недомогание, осталась дома. А мы втроем с Полинкой отправились в очередное путешествие. Сперва наш путь проходил по федеральной трассе, потом мы свернули на дорогу областного подчинения, затем уже не ехали, а скорее тряслись по местным ухабам и, наконец, километра полтора преодолевали по бездорожью. Вот эти последние полтора километра показались мне самыми интересными. Выехав за пределы очередного садового товарищества, мы стали приближаться к реке. И чем дольше мы ехали, тем шире открывалась перед нами бесконечная равнина, уходящая на много километров вдаль и лишь изредка покрытая редкими деревцами. Не помню, чтобы еще где-то у нас в округе я видел такие просторы.
Дорога, по которой мы ехали, привела нас к реке Киржач, к подвесному мосту, из-за которого уже отчетливо виднелась колокольня. Мы оставили машину и пошли по мосту через реку. Мост пешеходный, по нему еще можно, спешившись, перевести велосипед или легкий мопед, но не более. При ходьбе мост раскачивался из стороны в сторону, и Полинке это очень нравилось. Если левый берег, по которому мы подъезжали к Аргунову, больше походил на пастбище, во всяком случае, высокая трава там виднелась лишь кое-где, то правый высокий берег утопал в роскошном разнотравье. От моста дорожка плавно поднималась вверх и, разветвляясь, левой стороной вела по направлению к бывшему храму, а вправо уходила прямиком в сосновый лес.
Все вместе – солнце, чистое голубое небо, полевые цветы, доходящие до пояса, птицы и танцующие в воздухе бабочки – потрясло нас, но только одна Полинка, еще не способная управиться с переполняющими ее эмоциями, кинулась в высокие травы навстречу бабочкам и закружилась вместе с ними. А бабушка и я стали подниматься выше, туда, где виднелась колокольня.
Когда мы наконец достигли цели своего путешествия, перед нами открылась печальная картина. То, что некогда было величественным храмом, после взрыва превратилось в такую же огромную кучу битого кирпича. Время и ветер заносили кирпич песком и пылью, до тех пор пока куча не приобрела вид холма, со стороны больше похожего на верблюжий горб. Здесь же, рядом с бывшим храмом, находилось кладбище. Возле «верблюжьего горба» скромно приютились несколько старых, но не так давно восстановленных надгробий. Остальная территория настолько заросла плотным кустарником, что пробраться сквозь него и попытаться обнаружить хоть что-то, напоминающее старые захоронения, не представлялось никакой возможности.
Вот и сама колокольня. Дверей как таковых, понятно, уже не сохранилось. С восточной стороны, где некогда располагался вход в пространство храма, сооружено что-то наподобие часовни. По стенам, где была возможность, разместили бумажные иконки, современные, софринской печати, и старинные, дореволюционные. Стены внутри колокольни в свое время были расписаны яркими красками. От самих фресок уже практически ничего не сохранилось, но понять, что здесь изображалось, кое-где еще можно. Я предложил: