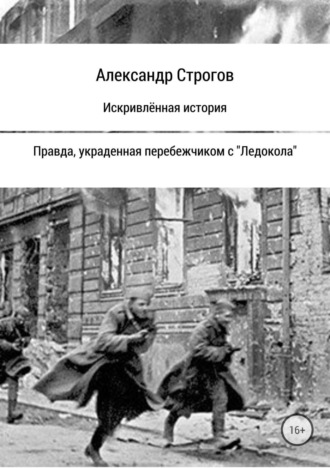
Искривлённая история
За сталинградской катастрофой последовали бои на Таманском полуострове, где находилась изолированная группа армий «А», а также на харьковском направлении. Город, первоначально захваченный советскими войсками, был отбит контрударом эсесовских механизированных дивизий; советская 3-я танковая армия и ряд корпусов и дивизий попали в окружение, вывести из которого удалось лишь часть личного состава и техники. Немаловажно будет подчеркнуть, что в ходе этих боёв, несмотря на широкое применение немцами танков Pz.Kpfw.VI («Тигр»), наиболее многочисленным их танком оставался Pz.Kpfw.III.
Глава 63. Сражение на Курской дуге
Не рискуйте своей жизнью без необходимости, пока я не дам сигнал
Д. Эйзенхауэр
Генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн, отличившийся при взятии Севастополя, а также в ходе разгрома Крымского фронта, в этот период выдвинулся на первый план: в течение более чем года ему предстояло возглавлять группу армий «Юг», ответственную за наиболее динамичный сектор советско-германского фронта. Это был типичный прусский аристократ, большинство предков которого, как по отцовской, так и по материнской линии, носили генеральские погоны. Э. фон Манштейна отличал ясный ум, великолепные оперативные способности: именно он является автором плана «Удар серпом», который сменил первоначальный план «Гельб» (“Fall Gelb”, нем. «Жёлтый план»)в кампании 1940 г. на Западе. К представителям других национальностей он демонстрировал неизменно презрительное и безжалостное отношение. Так, в ходе кампании в Крыму в 1941 – 1942 годах, полностью проходившей под его командованием, Э. фон Манштейн принял прямое и самое деятельное участие в истреблении евреев и крымских татар; его войска также применяли отравляющие газы против защитников Аджимушкайских каменоломен.
После войны за применение в 1943 – 1944 гг. тактики «выжженной земли» («за недостаточное внимание к жизни гражданского населения», как гласил обвинительный вердикт) Э. фон Манштейн был приговорён к 18 годам тюремного заключения; впоследствии срок сократили до 12 лет, а в 1953 г. Э. фон Манштейна освободили – по состоянию здоровья, позволившему ему, однако, прожить ещё 20 лет.
Э. фон Манштейн, достигнув успеха в боях за Харьков, сразу же обратил внимание на Курский выступ – выдающийся в западном направлении участок советского фронта глубиной до 150 км и шириной до 200 км. А. Гитлер, узнав о возможности проведения операции на окружение, немедленно решил придать ей масштаб побед 1941 г. – и настаивал на отсрочке даты наступления, пока данный выступ не заполнится советскими войсками. Пока немцы упражнялись в прорыве оборонительных порядков в специально созданных учебных лагерях, их противник совершенствовал свою оборону, достигшую значительной глубины, и насыщал собственные порядки танками и САУ. Наступление, начавшееся 5 июля 1943 г., на северном фасе, где командовал В. Модель, быстро захлебнулось – немецким танковым дивизиям, действовавшим на узком участке, не удалось преодолеть эшелонированную оборону противника. На южном фасе, наоборот, был достигнут обнадёживающий результат – 2-й танковый корпус СС, насчитывавший три механизированных дивизии (фактически, они были сильнее, чем в более поздний период, когда их именовали танковыми), прорвал позиции советских войск и вышел на оперативный простор.
5-я гвардейская танковая армия (генерал-лейтенант П. Ротмистров), находившаяся в составе стратегического резерва (т.н. Степной фронт, развёрнутый в тылу обороняющихся войск), уже 9 июля получила приказ выдвинуться в район Прохоровки для отражения удара противника. 10 июля 5-ю гв. ТА включили в состав Воронежского фронта (Н. Ватутин). Командование фронта и представитель Ставки А. Василевский отдали приказ перейти в контрнаступление силами 1-й ТА, 5-й гвардейской, 6-й гвардейской (эти три армии понесли тяжёлые потери в предыдущие дни и могли участвовать в контрнаступлении, скорее, символически) и 7-й гвардейской армиям, а также 5-й гв. ТА. Последняя армия обладала 850 танками (261 Т-70, 501 Т-34 и 31 «Черчилль» Mk. IV) и должна была остановить продвижение немецкой 4-й танковой армии, угрожавшей создать «мешок», в который угодила бы значительная часть Воронежского фронта.
Большой отпечаток на ход сражения наложили личности командующих. П. Ротмистров, будущий маршал бронетанковых войск (1944) и Главный маршал бронетанковых войск (1962), несмотря на впечатление, производимую его «кавалерийской» фамилией и сопутствующую ей репутацию полководца, всегда нёсшего неоправданные потери, на самом деле им в значительной мере не соответствовал. В 1921 г. он отличился при штурме Кронштадта; был ранен. В довоенный период он едва не попал в расстрельный подвал – его уже даже ненадолго исключили из партии, – однако П. Ротмистров сумел оправдаться и счастливо пережить те трудные дни. В 1939 г. защитил диссертацию, посвящённую применению танков в современной войне. Это был относительно молодой (6 июля ему исполнилось всего 42 года), весьма начитанный командарм, ещё в декабре 1940 г. носивший знаки различия подполковника. Его отличительной приметой, весьма необычной для сталинских генералов, являлись очки.
П. Ротмистрова неоднократно упрекали более высокопоставленные военачальники – то за якобы «трусость», как то сделали Н. Ватутин и И. Конев в 1941 г. (хотя на деле П. Ротмистров лишь вывел свою танковую бригаду из-под удара в обстоятельствах, когда смежники побежали с занимаемых позиций), то за «нерешительность» и высокие потери, как то было в июне 1944 г. в ходе Белорусской наступательной операции (в тот раз П. Ротмистров был снят с командной должности и переведён в тыл, где пребывал до конца войны).
Противостоявший ему оберстгруппенфюрер (генерал-полковник) СС П. Хауссер был достаточно неординарной личностью, так как являлся единственным генералом Рейхсвера и Вермахта, перешедшим на службу в СС. Он участвовал в Первой мировой войне, в 1932 г. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта, был членом ветеранской организации «Стальной шлем»; с приходом нацистов к власти и переподчинением данной структуры СА П. Хауссер оказался в СС. Те, напомню, в 1934 г. вышли победителем во внутрипартийной борьбе, одолев при помощи армии многочисленные «штурмовые отряды» СА, к которым сами поначалу формально относились. Для эсесовцев, высшие чины которых прошли «суровую школу» уличных драк с коммунистами, но не обладали ни способностью к штабной работе, ни интеллектом, П. Хауссер оказался настоящей находкой, несмотря на то, что его квалификация была заметно ниже, чем у оставшихся на действительной службе генералов того же ранга. Впрочем, на фоне командовавшего 1-й дивизией СС Й. Дитриха93, который Первую мировую войну закончил в звании унтер-офицера, а в межвоенный период, будучи водителем А. Гитлера, проявлял себя лишь в потасовках и погромах, П. Хауссер, несомненно, отличался завидной образованностью.
Бои под Прохоровкой начались утром 12 июля и носили встречный характер: в 8 ч. 30 мин. утра советские 18-й и 29-й танковые корпуса атаковали 1-ю механизированную дивизию СС «Адольф Гитлер». Фактически, столкновение произошло не фронтально, а под углом, причём немцы, обладавшие лучшей оптикой, заметили противника раньше и перешли к обороне. Стрельба с места по целям, стремящимся как можно быстрее выйти на указанный рубеж, оказалась весьма эффективной. В течение дня к сражению присоединились 2-я («Дас Райх») и 3-я («Мёртвая голова») механизированные дивизии СС, а также части советской 1-й ТА, насчитывавшие до 150 танков. Значительное влияние на исход боя оказала немецкая пикирующая и штурмовая авиация, действовавшая в тесной связи с наземными войсками; ряд историков предпочитает говорить о применении в этом бою Вермахтом, фактически, авиационно-танковых соединений.
Бой закончился убедительной победой 2-го тк СС. 5-я гв. ТА на 12 июля имела 826 танков в 5 корпусах (18-й тк, 29-й тк, 2-й тк, 2-й гв. тк, 5-й гв. мк), из которых в строю было 755, в бою участвовало 604, утрачено… 328. Эсесовцы, кстати, не имевшие ещё на вооружении новейших Pz.Kpfw.V («Пантера»), из 294 имевшихся танков (4 Pz.Kpfw.II, 114 Pz.Kpfw.III94, 95 Pz.Kpfw.IV, 58 StuG III, 15 Pz.Kpfw.VI и … 8 трофейных Т-34) потеряли около 80 машин. Фактически, 5-я гв. ТА утратила боеспособность; немецкого прорыва удалось избежать лишь благодаря спешной переброске нескольких истребительно-противотанковых артиллерийских полков (ИПТАП) и бригад (ИПТАБР), которые принудили эсесовцев остановиться.
На фронт была отправлена комиссия во главе с Г. Маленковым для расследования причин столь жестокой неудачи. П. Ротмистров, вынужденный, как всегда, отдуваться за всех, проявил мудрость и не стал заявлять, подобно расстрелянному в 1941 г. главкому ВВС П. Рычагову, что «танки – гробы». Это, а также заступничество Военного совета фронта, уберегло его от сурового наказания. Решение о движении навстречу противнику П. Ротмистров, между прочим, принимал не самостоятельно, и иного решения в тех обстоятельствах быть не могло. Это был не первый случай подобного рода: в 1939 г., в ходе боёв на Халхин-Голе, Г. Жуков также в критический момент задействовал резерв, 11-ю танковую бригаду (комбриг М. Яковлев), которую, вопреки уставу, ввёл в бой без пехотного прикрытия. Следствие также оправдало Г. Жукова, как и история.
О значении боёв на Курской дуге и о неизбежности победы, по мнению Верховного главнокомандующего, свидетельствует тот факт, что в начале августа штабы фронтов посетил сам И. Сталин (И. Джугашвили) – он проверял готовность войск к контрнаступлению. Это знаменательное событие, единственный, кстати, визит вождя в действующую армию, являлось лучшим доказательством того, что вот-вот в ходе войны произойдёт решительная перемена в пользу Красной Армии.
Немцы, не достигшие тех успехов, на которые рассчитывали, колебались. Э. фон Манштейн, разработавший первоначальный план операции и критично относившийся к его окончательной редакции, всё же полагал, что успех мог бы быть достигнут – какая разница, рассуждал он, осуществлено окружение сходящимися ударами – или всего лишь одним, подсекающим? Для этого он, однако, требовал переподчинения имевшихся танковых резервов ему – и самого энергичного продолжения атак.
А. Гитлер, впрочем, придерживался совершенно иного мнения. Он был не уверен в армии и поэтому старался беречь лучшие дивизии СС. К тому же, начиная с 10 июля, союзники проводили десантную операцию на Сицилии. Новости, доходившие из Италии, были крайне неутешительными: режим Б. Муссолини угрожал вот-вот рухнуть. Что бы случилось, если бы оставить события там идти своим чередом или же ограничиться отправкой неблагонадёжных армейских дивизий, можно было только предполагать.
Уже 13 июля, то есть на следующий день после сражения под Прохоровкой, в ставке А. Гитлера состоялось совещание, посвящённое операции «Цитадель». Несмотря на протесты ряда армейских командиров, фюрер оказался непреклонным: важнее всего сейчас Италия.
Думаю, эта история, как статистика сражения под Прохоровкой, так и неожиданное изменение стратегических планов Вермахта, великолепно отражает положение вещей на фронтах Второй мировой войны в момент перелома: Красной Армии не удалось самостоятельно сдержать Вермахт под Курском – немцы приняли решение прекратить наступательную операцию лишь благодаря действиям англо-американских войск на Сицилии.
Впрочем, такое взаимодействие (совсем не то, что в период «странной войны» и во время советской агрессии в Финляндии) требовало от советской стороны более чем убедительных доказательств верности избранному политическому курсу, что в первую очередь подразумевало отказ от идеи Мировой социалистической революции. 15 января 1943 г. в Красной Армии были введены погоны, причём командиры отныне именовались офицерами.
Золотопогонники вернулись! А как же Коминтерн, спросите вы меня? Может, пылкие революционеры просто затаились? Нет, Коминтерн, в котором почти и не осталось «старых большевиков», истреблённых в годы чисток, был упразднён 15 мая 1943 г. – ровно четыре месяца спустя после ввода погон. Я не знаю, можно ли говорить о Мировой социалистической революции после этого. Теперь вы понимаете, что имел в виду И. Сталин (И. Джугашвили), говоря в 1941 г. Г. Жукову, что превосходно обходится и без В. Ленина (В. Ульянова).
Здесь уместно предоставить слово самому В. Ленину (В. Ульянову), который, по словам В. Войтинского, заявлял: «Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец… У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Несомненно, В. Ульянов (В. Ленин), всячески продвигая И. Сталина (И. Джугашвили), имел в виду именно то, что тот как раз обладает подобными, отнюдь не мещанскими, личностными качествами, позволяющими ему успешно заниматься политикой. Да почему бы и не политикой партии, раз уж она есть, причём единственная и правящая? А почему бы и без избыточного марксизма, раз уж он мешает государственным интересам?
И. Сталин (И. Джугашвили) своим сговором с мировым капиталом, предоставившим ему не только безвозмездную военную помощь на астрономическую сумму, но и военную помощь, сковавшую А. Гитлера в самый неудобный для того момент, обеспечил для ВКП (б) победу над фашизмом, пусть и ценой уступок, которые, по сравнению с Брестским миром, представляются относительно малозначимыми. Однако без этих уступок было бы невозможно достичь победы, тут двух мнений быть не может.
Глава 64. Асы – лживая магия цифр
Когда нас сбивали, пехота, как увидит —летчик! – и покушать проведут, и всё что угодно
майор С. Горелов, командир истребительной авиаэскадрильи
Цифры не лгут никогда – это очевидная всем истина. Но вот люди лгут всегда – это их неотъемлемая черта. Когда речь доходит до цифр, особенно связанных с выплатами и награждениями, ложь приобретает масштабы эпоса. Так и рождаются легенды.
Речь сейчас пойдёт, как вы можете догадаться, о легендах истребительной авиации – не о «шеф-пилотах» с импортными финскими пистолетами, приобретёнными через дипмиссию (тоже операция внешней разведки, сами понимаете, какая это ответственность – взять и потратить государственные деньги и почти ничего из них не украсть), а о тех, кто действительно сражался в воздухе.
Количество побед в послужном списке того или иного лётчика-истребителя само по себе убеждает нас: всё сказано – и добавить тут нечего. Однако на деле речь идёт не о спортивных соревнованиях, где возможности сжульничать ограниченны, наоборот – умение создать качественное и количественное преимущество считается первейшей отличительной чертой выдающихся военачальников. Например, большинство выдающихся асов – немецкие. Почему? Ведь Германия проиграла войну. В этом суть: немецкие лётчики-истребители постоянно сталкивались с количественно превосходящим противником, который агрессивно атаковал, используя крупные скопления бомбардировщиков. До известной степени, так даже легче одерживать победы: противник повсюду – нужно лишь наносить быстрые жалящие удары и быстро удаляться, записав в свой актив сбитый самолёт. Но был ли бой – и корректно ли говорить в таких случаях о «победе», если противник даже не видит, как его подстрелили в «хвост»?
Другой вариант: численно противники равны, это две пары, столкнувшиеся на средних высотах; допустим, что они обладают одинаковым запасом горючего, а начальство никак не сковывает их лишними указаниями – словом, сражайся, на всё твоя воля. Однако и здесь многое зависит не от мастерства лётчика, а от его машины. «Мессершмитт» Bf-109 может легко уйти на вертикали от своего советского оппонента (допустим, Як-9), а потом неожиданно вернуться и атаковать с удобного угла.
А ведь может дело обернуться и наоборот: схватилось несколько эскадрилий, и разгоревшийся яростный бой крепко привязан к группе бомбардировщиков, стремящихся выйти на цель. Задача одной стороны – прикрыть «бомберы», задача другой – уничтожить и истребители прикрытия, и ударную группу. Бой неизбежно будет идти на виражах, где преимущество получат более юркие советские Ла-5, Як-9 и др.
Фактически, так и было: в то время как отдельные немецкие асы, имеющие право «свободной охоты», атаковали с высот и увеличивали свой счёт до фантастических показателей, как, например, Э. Хартманн, в целом, битву за господство в воздухе выигрывала советская авиация.
По-иному дело обстояло в боях Люфтваффе и британской и американской авиации. В 1940 г., в ходе «битвы за Англию», несмотря на превосходство немцев в выучке и наличие у них самолётов новейших типов, британцы одержали куда больше побед – фактор растянутых коммуникаций, к тому же «привязка» немецких истребителей к собственным бомбардировщикам, оказывали негативное влияние на ход воздушных боёв.
Может, просто Королевские ВВС были всем сильнее? Нет, в боях над Африкой в 1941 – 1942 гг., когда обе стороны находились в приблизительно в равных условиях, немецкий ас Г.-И. Марсель одержал 158 побед. Когда военная удача, казалось бы, окончательно склонилась на сторону союзников, и те начали регулярно осуществлять массированные налёты на Германию, «фактор своего поля» начал работать уже на их противника. Асы Г. Лент и Г. Шнауффер каждый сбили более чем по 100 четырёхмоторных бомбардировщиков. Однако и Г.-И. Марсель, и Г. Лент погибли в бою, а Э. Хартманн имел в своём «пассиве» 17 вынужденных посадок. Мы вправе предположить, что речь шла не столько о лёгкости, с какой им давались победы, сколько о значительной нагрузке на отдельных, отлично подготовленных пилотов, которая со временем стала чрезмерной. Количество побед в данном случае – отличная возможность для военной пропаганды заявить о преимуществе собственного оружия, следовательно, и «гонка» асов, имевшее место неофициальное соревнование, возникла в большой степени в результате усилий пропагандистов.
Самая главная проблема с количеством сбитых самолётов – откровенные «приписки». В ходе «битвы за Англию» их размер достигал 100%, причём ни одна из сторон не отличалась объективностью. Когда истребители заинтересованы в улучшении своего послужного списка, многое зависит от подтверждения «независимых наблюдателей». Для англичан это были служащие наземных частей ПВО и штатские – тут легко добиться каких угодно свидетельств, – для немцев – лётчики бомбардировочной авиации, которых они, в ущерб своим тактическим возможностям, самоотверженно прикрывали. Как нетрудно догадаться, рука постоянно мыла руку – и руки эти неизменно оставались самыми чистыми в мире.
В таких обстоятельствах, имея своё, достаточно осторожное, отношение к впечатляющим цифрам побед, одержанных в небе, мы можем рассмотреть несколько пунктов, на которые особенно любит упирать В. Суворов (В. Резун), настаивая: Советский Союз готовился напасть на нацистскую Германию в 1941 г. Заодно мы также посмотрим, как ведущие асы СССР шли к победе, которая всё-таки состоялась, несмотря на тщательнейшую «подготовку».
Интересный довод бывшего женевского военатташе в пользу его концепции об агрессивных замыслах СССР на 1941 г. связан с созданием стратегической бомбардировочной авиации в СССР в 1930-е годы. Он изложен в главе «Почему Сталин уничтожил свою стратегическую авиацию?» книги «День “М”». Разведчик-писатель рассуждает весьма просто: если И. Сталин (И. Джугашвили) создал стратегическую авиацию, значит, он готовится к войне, если уничтожил – снова готовится к войне. В общем, чтобы не читать эту заунывную, постоянно повторяющуюся мантру, давайте попробуем оценить ситуацию самостоятельно.
Стратегическая авиация в СССР действительно была создана. Вооружённая более чем 1 тыс. четырёхмоторных бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3 (последние производились вплоть по 1937 г. включительно), в 1936 г. она начала сводиться в армии. Первая из них, Армия особого назначения (АОН-1) сформирована 8 января 1936 г. Нужно тут же сказать, что уже в 1939 г. ТБ-3 сняли с вооружения бомбардировочной авиации и переоборудовали в транспортно-десантные, а в 1940 г. все три АОН расформировали. Стратегические бомбардировщики устарели морально и для выполнения боевых задач являлись совершенно непригодными. Более того, уже в момент создания АОН-1 они являлись устаревшими, ведь первый полёт новейшего, революционного истребителя Bf-109 фирмы «Мессершмитт» состоялся 29 мая 1935 г.
Не успели – первое предположение, которое выскажет любой знаток В. Суворова (В. Резуна) и… ошибётся. ТБ-3 были непригодны для боевых действий изначально: практический их потолок составлял всего 3800 м, а максимальная скорость на высоте 3000 м – 177 км/ч. Для сравнения: немецкий истребитель-биплан He-51 фирмы «Хейнкель», впервые поднявшийся в воздух в 1933 г. и увидевший свой «звёздный час» во время гражданской войны в Испании, обладал потолком в 7700 м и максимальной скоростью в 310 км/ч на высоте 4000 м. ТБ-1 и ТБ-3 были лёгкой добычей для «хейнкелей».
Если говорить о боях в небе Испании, то там хорошо зарекомендовал себя биплан И-15 , показавший своё превосходство над He-51, чем принудил командование легиона «Кондор» запросить новые Bf-109. He-51, морально устаревшая машина, начала использоваться для вспомогательных задач, в том числе в качестве штурмовика. Впрочем, И-16 конструкции Н. Поликарпова, несмотря на рекордно мощное вооружение, едва ли соответствовал требованиям времени, по крайней мере, в 1941 г. Это был моноплан, выпущенный в количестве около 10 тыс. шт., 3444 из которых составили учебные. Первоначально оснащённый двигателем в 480 л. с., он прошёл модификацию и получил более мощный 750-сильный двигатель; скорость на высоте 3160 м достигла 448 км/ч, а потолок – 8270 м. По всем этим показателям он уступал Bf-109, имея, впрочем, преимущество в маневренности на горизонталях.
Что до ТБ-3, то те вступили в бой в качестве ночных бомбардировщиков и транспортников – так их уязвимость скрадывалась темнотой. Тогда зачем же было создавать стратегическую авиацию, если она так и не была использована по назначению? Это вопрос, который следует адресовать не мне. Я могу лишь предполагать, чем руководствовался И. Сталин (И. Джугашвили). Проще всего было бы предположить, что он действительно готовился к войне, однако не вполне отчётливо понимал последствия своих необдуманных действий: заказав 1000 четырёхмоторных самолётов и построив их, он вдруг узнал, что те не очень-то пригодны для стратегических бомбардировок. Тогда И. Сталин (И. Джугашвили) попытался использовать их хоть как-то – если не в качестве транспортно-десантных машин, то хотя бы как ночные бомбардировщики. Если же и для этой цели они не очень пригодны… ну, хотя бы для устрашения – вот, мол, целые армии имеются… «особого назначения».
Как пример наличия у СССР современной стратегической авиации В. Суворов (В. Резун) называет Пе-8 (ТБ-7). 19 мая 1942 г. машина эта, с В. Молотовым (В. Скрябиным) на борту, беспрепятственно пересекла Европу и приземлилась в Великобритании. По мнению разведчика-историка, это явное доказательство мощи советских ВВС. Ну, он, как всегда преувеличивает. Пе-8 уступал американскому B-17, вступившему в эксплуатацию, кстати, на 2 года раньше, в скорости на 73 км/ч, а в потолке – на 1550 м; B-17 являлся более высотным и скоростным, в то время как конструкция Пе-8 была изначально ориентирована на перевозку грузов большей массы (5 т против 2,3 т), видимо, в расчёте максимально использовать запланированные для выпуска небольшой серией машины.
Что до перелёта В. Молотова (В. Скрябина), то нужно в первую очередь отбросить в сторону ехидные шутки насчёт того, что нацисты никогда бы не причинили вред человеку, подписавшему с ними столь выгодный пакт о ненападении. Нужно реально оценивать мощь ПВО III Рейха: сбить этот Пе-8 они физически не могли. Речь, кстати, идёт не о практическом потолке полёта: у двухмоторного Bf-110 он составлял 10 500 м, а у одномоторного Fw-190 – 12 000 м (против 9300 м у Пе-8); преимущество в скорости также было на стороне немецких истребителей. Трудность противодействия «пролёту» заключалась в обнаружении цели: наземные радары того периода были ещё крайне несовершенны, и вполне могли не заметить одиночную цель. Количество же машин, оборудованных радарами и способными осуществить перехват, являлось крайне небольшим, и в марте 1942 г. Люфтваффе могли похвастать лишь 2 победами (!), одержанными при помощи бортовых радиолокационных станций. Впрочем, на территории оккупированной Норвегии, над которой Пе-8 пересекал вражескую границу, таких технических новинок достоверно не было.
Так В. Молотов (В. Скрябин), никем не замеченный, и пролетел над никем не охраняемой зоной, за что командир экипажа и оба штурмана получили звание Героя СССР, второй пилот и оба борттехника – Орден Ленина, а остальные члены экипажа – боевые ордена и медали.
В конечном итоге, в ходе Второй мировой войны массированные налёты стратегической авиации осуществлялись лишь англо-американскими ВВС. Это были передовые державы, в которых, благодаря современным технологиям, удалось создать в значительной степени неуязвимые для средств противовоздушной обороны четырёхмоторные самолёты. Однако и эффективность высотных бомбардировок, осуществлявшихся «по площадям», была крайне невысока – их могли позволить себе лишь самые богатые и, как ни странно, мирные, страны, избегавшие прямого столкновения. Создание АОН, как легко догадаться – это не подготовка к агрессивной войне, это подготовка к войне на истощение, подготовка к стратегической обороне и явное доказательство относительно мирных (хотя и озабоченных вопросами обороны) замыслов СССР.

