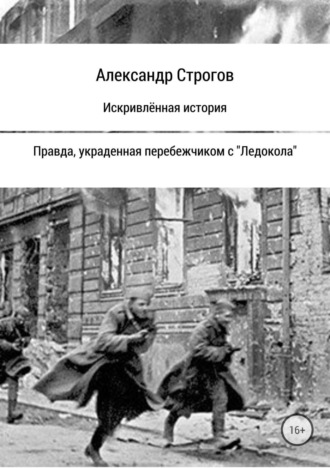
Искривлённая история
Который из двух вариантов ближе к истине – обусловленный издержками бюрократизации советского общества, или же целевой подготовкой гвардейцев под видом парашютистов, сейчас уже определить невозможно. Вероятнее всего, в действительности оба они в какой-то степени имели место.
Глава 58. О роли разведки в отражении немецкой агрессии
Люди, рост которых составляет определённое количество сантиметров, несомненно, должны иметь нужную кровь
Г. Гиммлер, рейхсфюрер СС
Уверен, даже сейчас не все со мной согласятся – и будут продолжать верить в версию о Мировой социалистической революции, а не в очевидную правду о ни с чем не сравнимой жаждой власти, уживавшейся в душе вождя с исключительным приспособленчеством – качества, которых И. Сталин (И. Джугашвили) старательно воспитывал в своих подчинённых.
И скажут: но ведь выпускник Академии ГРУ В. Суворов (В. Резун) написал… Да чего не напишешь, если за это хорошо заплатят? Кстати, почему вы думаете, что В. Суворов (В. Резун) очень многому научился в этой самой Военно-дипломатической академии? Попал он туда, как сам говорит, по протекции, а не по причине наличия неких исключительных талантов. Данное учебное заведение – не просто высшее, так как высшее военное образование присваивается выпускникам военных командных училищ, а аналог гражданской аспирантуры, и студенты её являются аспирантами, по-военному – адъюнктами. То есть каждый, кто проходил – и проходит – в данной академии – или в любой другой военной академии – обучение, занимается научной деятельностью и должен, выпускаясь, защитить кандидатскую диссертацию. В. Суворов (В. Резун) в своих мемуарах прямо указывает, что учёных степеней у него нет, следовательно он закончил адъюнктуру (Военно-дипломатическую академию) с «волчьим билетом», справкой о том, что благополучно прослушал курс и как-то сдал выпускные экзамены.
Потом В. Суворов (В. Резун), работая военным атташе, долго защищал Родину, покупая у каких-то там представителей иностранных фирм какие-то приборы (за хорошие деньги, конечно, которые почти никогда не приворовывал), а диссертацию всё обещал дописать да защитить. Слова и предложения упорно не желали формировать текст, представляющий собой научное открытие, и диссертация так и не была написана. Очевидно, то, чем В. Суворов (В. Резун) пудрит вот уже которое десятилетие мозги нашим читателям, падким на всё «разведывательно-диверсионное», «офицерское» и «специального назначения», и есть его несостоявшаяся научная работа. Её научная ценность, как нетрудно догадаться, отрицательная.
Кто-то скажет, что В. Суворов (В. Резун) был просто хороший разведчик, который не тратился на бумагомарательство (как это не тратился – вон сколько томов написал?). Да и разведчиком высокого уровня его назвать трудно – ведь даже все его истории с покупками приборов («добывание», как он их высокопарно именует) закончились элементарным разоблачением. В результате В. Суворова (В. Резуна) перевербовали, после чего организовали побег – по «идейным соображениям». Лишь затем его «труд» был переработан и доведён до уровня, достойного публикации.
Мне очень легко было доказать, что В. Суворов (В. Резун) плохо разбирается в танках (действительно, А-20 оказался отнюдь не «автострадным», а просто созданным на ХПЗ, вероятно, при участии английских и американских специалистов) и в оперативном искусстве (действительно, громким поражениям РККА были объективные причины, куда более значимые, чем едва ли не случайное «упреждение» Вермахта). Я сейчас докажу, что он и разведчик слабенький, если недостаточно факта его провала, вербовки иностранной разведкой и последующего перехода на сторону вероятного противника с недописанной недо-диссертацией в руках.
Это очень просто сделать, раз уж В. Суворов (В. Резун) сам дал против себя показания. Он утверждает, что Ф. Голиков, будущий маршал СССР, в 1940 – 1941 годах возглавлявший ГРУ, имел убедительные доказательства неготовности Германии к войне, а поэтому его донесения о том, что Вермахт не собирается атаковать СССР, воспринимались И. Сталиным (И. Джугашвили) благосклонно. Это, конечно, чушь. Ф. Голиков так хорошо справлялся со своими обязанностями в предвоенный период, что в первые дни войны был снят с занимаемой должности. Ещё бы! Проворонить вторжение силами 157 дивизий и 12 бригад!
Ф. Голиков, вообще, был политработник (11 лет работал в ГлавПУРе), переобучившийся на командира. ГРУ возглавил, сменив в июле 1940 г. И. Проскурова, лётчика-ветерана гражданской войны в Испании, подобно П. Рычагову, быстро взлетевшего, но и быстро упавшего с высших командных постов. До этого Ф. Голиков в разведке не работал, хотя, как политрук, конечно, был знаком с курсом партии. На должности главы ГРУ он докладывал всё, что докладывали ему, включая и многочисленные сообщения о готовящемся нападении Германии на Советский Союз (только дата 22 июня 1941 г. фигурировала более чем в полутора десятках таких сообщений). Вместе с тем, вслед за И. Сталиным (И. Джугашвили) все такие сообщения он сопровождал словами, указывающими на вероятность причастности английской или, хуже, немецкой разведки. Это и было главным залогом его карьерного роста.
А. Голованов в своих мемуарах подчёркивает: те, кто признавал свои ошибки самостоятельно, имел шанс на прощение, те же, кто проявлял характер и упорствовал, пытался оправдаться – никогда. Вот и вся сталинская кадровая политика: кто послушен – того возвышаем, кто гордый – заговорщик, не исключено, что шпион. И если вы думаете, что я трактую воспоминания А. Голованова слишком вольно, то вот вам свидетельство Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва, изложенное ими в официальной обстановке, в форме доклада на ХХ съезде КПСС: «Тот, кто сопротивлялся… или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением».
После увольнения с должности начальника ГРУ Ф. Голиков возглавлял дипломатическую военную миссию в Великобритании и США, командовал армиями, фронтами, был уполномоченным Совнаркома по делам репатриации граждан СССР из Германии, возглавлял Военную академию бронетанковых войск, ГлавПУР, словом, чем только не занимался. Это человек, которому И. Сталин (И. Джугашвили), в целом, доверяет – но исключительных талантов ни в одной из областей деятельности, на которые направляет, обнаружить не может. Это, грубо говоря, персонаж из пресловутого анекдота, который заканчивается словами: «Мои ослы! Куда хочу, туда и ставлю!» (с заметным грузинским акцентом).
Теперь перейдём к «доказательствам» неготовности Германии к войне против СССР, которые Ф. Голиков якобы предоставлял И. Сталину (И. Джугашвили). Самое главное: документов, подтверждающих версию о сборе подобных «доказательств», нет. Мы вынуждено верить разведчику на его офицерское слово. Второе: он и сам говорит, что самостоятельно до всего додумался, просто потом получил тому подтверждения из надёжных источников, может, даже от бывалых разведчиков (а их опыт неоценим, доверие таких людей – это не какие-то там бумажки из архивов). Что же может быть лучше! Давайте оценим В. Суворова (В. Резуна), военного атташе, выпускника Военно-дипломатической академии как разведчика аналитика.
Итак, «доказательство» первое. Ф. Голиков якобы велел собирать информацию о переходе немецких войск на зимнюю смазку для оружия. Очень правильное замечание, на первый взгляд: в европейской части СССР зимой очень холодно, поэтому немецким солдатам понадобится зимняя смазка, не замерзающая при низких температурах, и моторные масла соответствующих типов.
Не исключено, что подобные смазки и масла действительно разрабатывались в тот период, но едва ли их можно было обнаружить на задворках немецких казарм, ещё и в летнее время. На зимнюю смазку переходили бы только зимой, причём лишь там, где это необходимо, ведь подобные препараты всегда стоят дорого. Напротив, это должен бы был быть самый строго охраняемый секрет III Рейха – и Ф. Голиков так и не смог его добыть. Впрочем, если бы смеси и разработаны, это ещё не свидетельствует о подготовке вторжения в СССР – это просто научные разработки, они ведутся постоянно, причём в самых разных областях.
Впрочем, Вермахт обошёлся без машинного масла и оружейной смазки специальных сортов, по крайней мере, в первую зиму 1941 – 1942 годов. Делалось это очень просто: моторы танков и бронетранспортёров на ночь зачастую не глушили, чтобы никому не было холодно. Если же действительно случалось такое, что двигатель выключали, а потом он не запускался, то поступали самым простейшим образом: прогревали мотор при помощи паяльной лампы. Так поступали, кстати, и с авиационными двигателями. Со смазкой же было гораздо легче: от неё попросту избавлялись. Да, действительно, несмазанное оружие работает не очень хорошо, но всё-таки как-то работает. Что любопытно, написанная Р. Толивером и Т. Констеблем биография немецкого воздушного аса Э. Хартманна из JG 52, заставшего следующую зимнюю кампанию, свидетельствует о том же положении вещей с зимней смазкой и топливом – двигатели, даже авиационные, прогревались при помощи открытого пламени, причём не только в «неподготовленных» Люфтваффе, но и в советских ВВС.
Второе «доказательство»: цены на баранину. Их колебания на европейском рынке должны бы были предоставлять объективную информацию о забое большого числа баранов и овец, имеющего цель изготовить несколько миллионов бараньих тулупов. Очень резонно: кто же зимой будет воевать, не имея бараньего тулупа? Так ведь и простудиться недолго.
Вы знаете, немцы так и не оделись в бараньи тулупы, не считая трофейных. В бараньих тулупах воевать нельзя, они для этого не приспособлены. Были разработаны зимние куртки, позволявшие чувствовать себя достаточно комфортно даже зимой. Впрочем, первая зимовка действительно далась Вермахту очень тяжело, даже была выпущена специальная медаль, чтобы хоть как-то извиниться перед её жертвами (фронтовики именовали эту награду – «За отмороженное мясо»). Впрочем, при морозах за -20 едва ли можно находиться на свежем воздухе продолжительное время даже в бараньем тулупе, нужно греться – у печи, у костра, у работающего двигателя. Здесь теплоизолирующий тулуп даже представляет собой препятствие.
Кстати, П. Карелл, исследовавший великое множество писем и дневников немецких солдат и офицеров, приводит удивительные примеры того, как немцы боролись с русскими морозами. Солдатам, едва они начинали жаловаться на усталость, врачи обычно прописывали первитин – сильнодействующий стимулятор типа метамфетамин. Грубо говоря, если советские войска, получая «100 наркомовских» граммов водки, шли в бой в состоянии алкогольного опьянения, то немецкие – в состоянии опьянения наркотического. Метамфетамины, являющиеся эффективным допингом, ранее широко применялись (до запрета, после гибели на Олимпийских Играх 1960 г. в Риме датского велосипедиста К. Йенсена) в спорте. Благодаря им немецкая пехота пешком дошла до Москвы.
А потом начались сложности: плотно сидящие на ноге сапоги при переохлаждении приставали к ней, с не чувствующего от первитина боли удивлённого солдата их снимали вместе с кожей и мясом. В полосе действия группы армий «Север» и немецко-финской группы войск был случай, когда целый батальон, вследствие резко понизившейся ночью температуры, поутру уже не проснулся.
Вместе с тем даже без утеплённой зимней обуви можно было относительно легко преодолеть неудобства, которые возникали при необходимости пребывать на морозе длительное время. Часовые просто брали два кирпича, раскалённые на печи, и становились на них.
На деле же немецкое наступление замерло совсем по другой причине. Распутица и последовавшие за ней морозы, которым сопутствовало возникновение глубокого снежного покрова, несомненно, препятствовали маневренным операциям, в которых немцы были заметно сильнее своего оппонента. На это прямо указывала геббельсовская пропаганда, называя генералов Грязь и Мороз главными виновниками провала наступления на Москву. Советские же войска, наносившие фронтальные и неглубокие удары, сопряжённые, кстати, с высокими потерями, смогли оттеснить противника от собственной столицы. Вот что говорит о боях под Москвой, разыгравшихся зимой 1941 – 1942 гг. Г. Гудериан: «Наши 37-мм противотанковые пушки оказались бессильными против русских танков Т-34. Дело дошло до паники, охватившей участок фронта до Богородицка». Попутно Г. Гудериан добавляет, что сущие мучения доставляет ему холод, плохое расквартирование, нехватка зимнего обмундирования, потери в материальной части – и совершенно неудовлетворительное снабжение горючим. Немецкие танковые дивизии обескровлены и будто вмёрзли в снег, не успевая отражать атаки противника. Однако о проблемах со смазкой и антифризом Г. Гудериан не упоминает. Даже бараньих тулупов не просит, хотя на морозы сетует, очень сетует.
Начальник Г. Гудериана, генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок, командовавший в тот период группой армий «Центр», чьи войска сражались под Москвой, в своём дневнике упоминает о проблемах с запуском танковых моторов в условиях русских морозов неоднократно, начиная с 12 ноября 1941 г. 5 декабря, с началом советского контрнаступления, он сообщает, что танки приходится бросать, так как те не в состоянии сдвинуться с места. То же 6 декабря: «приходится оставлять танки и артиллерийские орудия, поскольку моторы машин при такой температуре просто-напросто не заводятся». 22 января 1942 г. Ф. фон Бок, уже возглавивший группу армий «Юг» (с 20 января, взамен смещённого Г. фон Рундштедта), дополняет плачевную картину паралича, поразившего немецкие войска, сообщением о 21 артиллерийской батарее, полностью укомплектованной личным составом, с превосходными орудиями и значительным количеством снарядов – но те торчат без дела в тылу, так как их тягачи не могут завестись.
Что же тогда доказательство правоты В. Суворова (В. Резуна), подтверждающие его концепцию о решающем влиянии отсутствия антифриза на зимнюю кампанию 1941 – 1942 годов? Кому же верить, если не стенаниям Ф. фон Бока? Ну, о концепции В. Суворова (В. Резуна) говорить пока что рано, ведь Киев и Минск пали летом-осенью, под ударами, «неподготовленного» к войне с СССР Вермахта; в этот же период немцы вышли к Москве и блокировали Ленинград; в плен до наступления холодов попали миллионы красноармейцев, утрачены были десятки тысяч танков и самолётов и невообразимое количество военного снаряжения.
Жалобы же Ф. фон Бока следует рассмотреть подробнее, так как они представляют собой любопытнейший из примеров лжесвидетельства. Например, 12 ноября 1941 г., согласно его записям, температура упала до минус 20, а 6 декабря – до минус 38 градусов по Цельсию, что, как вы понимаете, не могло соответствовать истине. Уверен, он лгал, надеясь, что А. Гитлер разрешит его истощённым войскам перейти к обороне и по этой причине искал любой повод, который принудил бы фюрера разрешить ему отступить.
В это же время командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. фон Лееб87 11 ноября 1941 г., т. е. днём ранее сделал в своём дневнике запись совершенно противоположного содержания: «То, что наступление возможно даже сейчас, при морозе и снеге, доказывают действия группы армий «Центр» и 16-й армии под Тихвином. Для занятия зимних квартир время еще не пришло». В. фон Лееб действует севернее, и морозы, видимо, должны сковывать его гораздо сильнее. Он, однако, настроен оптимистично. О проблемах же с антифризом он вообще не упоминает, наоборот, его гораздо более беспокоят высокие потери, в результате которых к 15 декабря 8-я танковая дивизия сократилась в численности до группы, не превышающей батальонной. (Морозы вместе с тем достигли 29 градусов по Цельсию, вероятно, на крайней северной точке, в Заполярье).
Итак, заметно, что Ф. фон Бок, по сравнению с группой армий «Север», действующей севернее, испытывает невероятные затруднения от просто фантастических для средних широт морозов, которые якобы буквально обездвижили его танки, в то время как автотранспорт, несмотря на многочисленные поломки, обусловленные отсутствием дорог, продолжает кое-как функционировать. В чём же дело?
Я не стану делать от вас секретов: контрнаступление РККА, в ходе которого было задействовано большое количество Т-34 и КВ-1, выявило недостаточность имевшегося у немцев вооружения, танков и противотанковых пушек в боях с этими мощными машинами с противоснарядным бронированием. Вот что говорит о боях 17 ноября Г. Гудериан: «Каждый полк уже потерял к этому времени не менее 400 человек обмороженными, автоматическое оружие из-за холода не действовало, а наши 37-мм противотанковые пушки оказались бессильными против русских танков Т-34. Дело дошло до паники, охватившей участок фронта до Богородицка». Ключевым словом здесь является «паника», в результате которой немецкие солдаты бросили занимаемые позиции; немаловажно отметить странную особенность этих боёв: 37-мм скорострельные «колотушки» почему-то вели огонь, а автоматическое стрелковое оружие вдруг перестало «действовать». Разумеется, легко предположить, что немецкая пехота побежала ещё до того, как противник приблизился на расстояние эффективного огня пистолетов-пулемётов MP-38 и MP-40 (около 100 м).
30 декабря В. фон Лееб пишет: «Из-за многомесячных суровых боев и необычайно суровых морозов морально-психологическое состояние немецких солдат сильно ослаблено. Бои вступили в критическую фазу». 2 января 1942 г. он же сообщает морозах в минус 42 градуса по Цельсию (странное совпадение показателя температуры и даты, не правда ли?).
Я уверен, всё было предельно просто: морозы, конечно, влияли на ход боевых действий, но отнюдь не они принудили немецкие автоматы замолчать, а танки – остановиться. Советское командование смогло ввести в бой относительно большое количество вновь созданных танковых бригад, потрясших линию обороны противника на значительной протяжённости. Имея сокращённые до предела коммуникации и, вследствие этого, не испытывая проблем со снабжением подвижных групп, они наносили многочисленные фронтальные удары, принуждавшие Вермахт отступать. Интересно проанализировать ситуацию с артиллерийскими резервами группы армий «Юг»: Ф. фон Бок, приняв командование, не спешил, как, кстати, и его предшественник, бросать тяжёлую артиллерию в бой, а наоборот, рассчитывал отвести более подвижные пехотные и танковые дивизии на новые позиции, уже обеспеченные мощной огневой поддержкой. Так как делалось это вопреки приказу А. Гитлера, запретившего отступать, то он прибегал к различным уловкам.
Немецкие солдаты, встретившись с угрозой погибнуть под гусеницами, начали легкомысленно относиться к собственной одежде, что вызвало многочисленные обморожения – и госпитализацию, – а оружие, наоборот, забивали смазкой так, что затвор едва двигался. Танкисты, чьё вооружение составляли катастрофически сократившиеся в численности машины предыдущего поколения, разводили руками: мотор не заводится. Кому охота забираться в машину, которая гарантированно станет «гробом»? Здесь легко заметить то же отношение к оружию, что наблюдалось у РККА летом 1941 г.: 22 июня 1941 г., вопреки Директиве №1, требовавшей замаскировать технику, аэродромы оказались плотно уставленными самолётами, а в последующие недели и месяцы на маршах постоянно «выбывали» танки, считавшиеся «лёгкими и устаревшими» – Т-37А, Т-38 и другие.
И. Сталин (И. Джугашвили), как известно, в таких обстоятельствах расстрелял руководство Западным фронтом. А. Гитлер отправил в отставку всех трёх командующих группами армий (В. фон Лееба, Ф. фон Бока и Г. фон Рундштедта), впрочем, Ф. фон Бок не пробыл в запасе и трёх недель, приняв группу армий «Юг», как и Г. фон Рундштедт, который впоследствии возглавил немецкие войска на Западе. Та же судьба постигла и большинство командующих армиями, включая и Г. Гудериана.
Немцы в этот период испытывали трудности, вызванные отсутствием новейших танков с длинноствольными пушками, способными уверенно бороться с Т-34, а также с ремонтом техники, подвозом новых машин и снабжением топливом. В довершение всего конструктивные особенности немецких танков и САУ, обладавших узкими гусеницами и относительно слабыми двигателями, делали невозможным настолько широкий манёвр подвижными резервами, к которому они прибегали в предыдущие месяцы войны. Железнодорожные коммуникации пролегали по оккупированной территории, частично были разрушены, частично испытывали сбои из-за действий партизан. Дополнительную сложность представляла собой широкая советская колея и необходимость пользоваться трофейными паровозами, количество которых было недостаточным. Человек, которого считали ответственным за такое положение вещей – рейхсминистр вооружения и боеприпасов Ф. Тодт, возглавлявший к тому же «Организацию Тодта»88 ,– Ф. Тодт, неожиданно разбился в авиакатастрофе 8 февраля 1942 г. Специальным решением властей ФРГ на его могиле до сих пор запрещена установка каких-либо опознавательных знаков.
Итак, нетрудно заметить: смазка и машинное масло, не замерзающие зимой, были вполне компенсируемым фактором, как, до известной степени, и зимнее обмундирование, но нехватка танков и горючего – нет. Превосходство атакующих советских войск немедленно выпятило иные, куда менее значимые, обстоятельства, принудив солдат, офицеров и генералов Вермахта придать им якобы «решающую» роль, для чего пришлось даже пойти на очевидное занижение показателей температуры воздуха командованием группы армий «Центр».
О смазке и об антифризе, а тем более о количестве бараньих тулупов на складах противника Ф. Голиков И. Сталину (И. Джугашвили) в предвоенный период не докладывал, по крайней мере, его непосредственный начальник, глава генштаба РККА Г. Жуков ни о чём таком не упоминает – наоборот, его заботой было очевидное упреждение Вермахта в развёртывании и сосредоточении, тревожным показателем которого являлась пропускная способность сети железных дорог Восточной Пруссии (220 поездов в сутки), существенно превосходящая таковую в Литве (84 поезда в сутки).
Гипотеза «готовности», очевидно, возникла много лет и даже десятилетий спустя, на каком-то военно-дипломатическом совещании, проходившем, как говорят, без галстуков. Кто-то из начальников вдруг узнал, что В. Суворов (В. Резун) никак не может защитить диссертацию – и, подмигнув собутыльникам, немедленно подкинул тему. А тот – сразу видно, что умный, недаром «волчий билет» получил – взял, да и поверил. Прочёл мемуары Ф. фон Бока, Г. Гудериана – точно, всё немецкое оружие замёрзло и не действует! Так концепция получила «обоснование». Теперь вы понимаете, что значит словосочетание: «волчий билет»? Но зато это «волчий билет» Военно-дипломатической академии, внемлите каждому слову… недоучки. Он ведь знает, какие бумажки и у каких помещений по приказу главы ГРУ Ф. Голикова подбирали доблестные шпионы. По крайней мере, врёт, что знает.
Глава 59. Суровая парашютная действительность
Самая трудная задача – это быстрый сбор частей после выброски и приведение их в порядок
генерал-лейтенант Дж. Гейвин, командир 82-й вдд
Если говорить о реальных возможностях РККА осуществлять воздушные десанты в боевых условиях, то они были весьма скромными, о чём я уже говорил выше – и сейчас расскажу подробнее.
Общий план, по которому разворачивались десантные операции на предвоенных манёврах, я уже описал. Не исключено, что заимствован он был у немцев, с которыми советская сторона самым тесным образом сотрудничала в военной области вплоть до прихода А. Гитлера к власти. Правда, самого главного – парашюта соответствующей конструкции, позволяющего успешно проводить концентрированное десантирование в избранных точках, – РККА так и не позаимствовала.
Речь идёт о парашютах принудительного раскрытия RZ 16 (усовершенствованная версия – RZ 20), стоявших на вооружении ударных подразделений Люфтваффе. Во многих отношениях его конструкция была попросту ужасной: выпрыгивать из самолёта приходилось вниз головой, причём резкий рывок раскрываемого купола угрожал серьёзной травмой позвоночника. Высокая скорость приземления приводила к высокой вероятности ушибов и переломов, что привело к появлению в составе экипировки защитных налокотников и наколенников. Личное оружие, за исключением пистолетов, десантировалось отдельно, в специальных контейнерах, так как могло стать причиной травмы при приземлении.
Подготовка немецких парашютистов, как нетрудно понять, отличалась высокой требовательностью к личному составу и едва ли могла быть обеспечена в ходе занятий в аэроклубах. Правда, парашюты серии RZ позволяли осуществлять эффективное десантирование с высот в 110 – 120 м, даже 75 м (Критская операция). Разумеется, запасного парашюта в таких обстоятельствах быть не могло, что являлось дополнительным фактором сложности, по крайней мере, психологическим. Выпрыгивавшие из двери в хвостовой части Ju-52 десантники практически не рассеивались, что позволяло им быстро собираться и практически немедленно вступать в бой в составе тактических подразделений. В некоторых случаях, чтобы повысить кучность десантирования, применялись грузовые планеры – как, например, в ходе десанта на форт Эбен-Эмаэль в 1940 г. или при освобождении Б. Муссолини в 1943 г.

