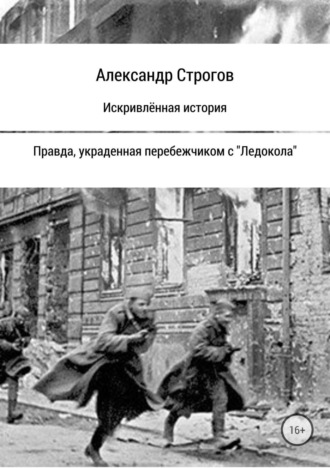
Искривлённая история
А. Голованов, Главный маршал авиации, подобно генерал-лейтенанту ВВС В. Сталину, как и председатель ГКО И. Сталин (И. Джугашвили), был необычайно сведущ во всём, что казалось авиации, особенно технических характеристик самолётов разных типов. О Василии, в вопросах тактики равнявшемся на подчинённых, я уже говорил, теперь следует рассказать и о его руководстве. И. Сталин (И. Джугашвили), по свидетельству А. Голованова, как, кстати, и все, кто с ним общался, на каждом докладе демонстрировал потрясающую осведомлённость в вопросах, с которыми к нему заявлялись подчинённые (действительно, от кого он только получал информацию о сути доклада и о его слабых местах?).
В общем, так случилось, что А. Голованов выдвинул идею использования дизельных двигателей в авиации, ведь эти двигатели весьма неприхотливы и способны работать на топливе с весьма низким октановым числом. Как ни странно, И. Сталину (И. Джугашвили) подобная, безумная с точки зрения любого, кто знает хоть что-то об авиации и двигателях, идея пришлась по душе. Начались разработки соответствующих моторов – например, М-40 начали устанавливать на Пе-8, использовавшихся АДД (Авиация дальнего действия). Сам А. Голованов, конечно, не разбился, но привычка останавливаться в самый ненужный момент у двигателей М-40 явно просматривалась. Ну, не проект «Крылья танка», но явление того же порядка. Гениальность всех времён и народов, что и говорить…
Самое интересное – в присвоении А. Голованову звания Главного маршала авиации, созвучного, кстати, его фамилии. Всем вам, наверное, знакомо входящее в школьную программу произведение Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». В нём автор, ветеран Первой мировой войны, крайне резко отзывается о боевых качествах итальянской армии, в которой он служил в качестве добровольца. Особенно сильное впечатление производит сцена допросов и последующих расстрелов карабинерами – итальянской военной жандармерией. «Другие карабинеры были в широкополых шляпах. Самолеты – так их у нас называли», – Э. Хемингуэй пишет о них в крайне презрительном тоне, не оставляя в сердце читателя места для симпатии. Писатель, придерживавшийся левых взглядов, организовал сбор пожертвований для испанских республиканцев, сам участвовал в боях на стороне интербригад. Эти факторы стали весомой причиной для того, чтобы его произведения, в том числе «Прощай оружие!», издавались в СССР миллионными тиражами.
О совершенно примитивном и пошлом чувстве юмора у И. Сталина (И. Джугашвили) я вам уже рассказывал. По моему мнению, взлёт А. Голованова (чем не «Главный»?) представляет собой в значительной степени проявление этой черты характера вождя. В конечном итоге, советская стратегическая авиация была явлением, скорее, декоративным, особенно по сравнению с англо-американской, и вполне выдерживала подобное «руководство». Зато на приёмах и обедах, проводившихся совместно с союзниками, красавец А. Голованов смотрелся просто великолепно, оставляя об Авиации дальнего действия (один из наиболее интересующих американцев вопросов) самое благоприятное впечатление. А про себя И. Сталин (И. Джугашвили) помня о заслугах шеф-пилота в дни «Великой чистки», называл того «Главным маршалом всех самолётов» и хитро улыбался.
Глава 56. Стервятники Геринга
Если кто-либо из вас обнаружит убитого коммуниста на улице, отвечайте всем, что убил его Я!
Рейхсмаршал Г. Геринг
Слова Г. Геринга заслуживают определённого внимания, так как он не только создал гестапо и руководил некоторое время СС, но и занимал ряд ответственных должностей в экономике (и.о. министра экономики, уполномоченный по выполнению 4-летнего плана, глава госконцерна «Герман Геринг верке», рейхсминистр авиации). Это был лётчик-ас Первой мировой войны, одержавший 22 подтверждённых победы85, участник «пивного путча», в ходе которого получил тяжёлое пулевое ранение. Последующее излечение, сопровождавшееся инъекциями болеутолящего морфина, превратило Г. Геринга в наркомана. Он чудовищно располнел и стал весить более 150 кг, за что получил прозвище «Жирный боров» (также «Летающий боров»), причём назначение главным имперским лесничим, несомненно, таило скрытую насмешку над этим прозвищем.
Г. Геринг во время войны почти устранился от дел, переложив работу министерства на подчинённых, в то время как сам п
редавался всем формам порока, разврата и коррупции, символом которых он стал. В период Нюрнбергского процесса, излеченный от наркозависимости, он давал столь откровенные и циничные показания, что стал настоящей «звездой» заседаний. Ему вынесли смертный приговор, приведению которого в исполнение помешала смерть Г. Геринга от цианистого калия, якобы переданного ему женой. Не исключено, что от него попросту избавились, лишь бы он не испортил процедуру смертной казни какой-нибудь выходкой.
Военно-воздушные силы Германии, во многом ассоциирующиеся с этим матёрым нацистским преступником, действительно обязаны ему немалым – в первую очередь, популяризацией авиации, привлечением значительных средств для её развития. Его навыки лётчика-истребителя, боевой дух, ненависть и презрение к врагу стали чертами, которые он стремился воспитать в новом поколении немецких авиаторов, что ему в значительной степени удалось.
Как вы понимаете, простым советским пилотам, которым предстояло столкнуться с закалёнными в «Битве за Англию» пилотами Люфтваффе, было не до шуток: ВВС РККА уже в первые часы войны подверглись сокрушительным ударам противника.
Завоевание господства в воздухе – одна из главных причин успехов Вермахта в первые годы войны. Осуществлялось оно, в первую очередь, благодаря успешным действиям истребительной авиации, оснащённой преимущественно истребителями Bf-109 фирмы «Мессершмитт». К участию в операции «Барбаросса» 22 июня 1941 г. немцами было привлечено 2770 боевых самолётов из имевшихся 4300, из которых 830 единиц составили Bf-109. Общая численность авиапарка Германии и её союзников на советской границе достигала 4846 единиц. ВВС РККА на тот момент обладали 24 488 самолётов (включая 21 030 исправных), в том числе 10 743 – в западных военных округах. Из них 1200 было уничтожено в первый день войны, в том числе немалая часть – на аэродромах, несмотря на Директиву №1, прямо предписывавшую замаскировать технику. 9-я смешанная авиадивизия Западного фронта 22 июня 1941 г. потеряла 347 самолётов из 409; её командир, генерал-майор С. Черных, был арестован 8 июля и впоследствии расстрелян.
Впрочем, отнюдь не внезапность нападения и не потери на аэродромах были главной причиной потерь советской авиации, а наоборот, именно её агрессивность, как в случае и с танковыми войсками. Так, в 1941 г. советские ВВС делали в среднем по 2379 вылетов в сутки против 196 у противника. Большая часть самолётов, находившихся на вооружении, была уже устаревших типов, и, поднимаясь в воздух, они становились лёгкой добычей для противника. Немецкие лётчики, ряд из которых добился 100 (первым это сделал В. Мёльдерс) и более побед, быстро приобретали бесценный боевой опыт, в то время как «сталинские соколы» зачастую вступали в бой, имея лишь минимальный стаж пилотирования. В среднем каждый седьмой советский пилот в этот период погибал ещё в первом боевом вылете.
Превосходство Bf-109 над И-15, И-153 и И-16 было неоспоримым: «мессер» обладал более высокой горизонтальной скоростью и скоростью в пикировании, а также более быстрым набором высоты. Оснащённые мощным двигателем в 1000 л.с. (Bf -109E) и даже в 1270 л.с. (Bf-109F), немецкие истребители, избегая боёв с более лёгкими и маневренными самолётами противника на виражах, предпочитали атаковать с высоты, зачастую от солнца, то есть из-за пределов видимости, с пикирования, преодолевать строй советских самолётов, осыпая его огнём из автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов – и тут же уходить на вертикали. Э. Хартманн, наиболее результативный немецкий ас (352 сбитых самолёта), несмотря на то, что подавляющее большинство своих побед одержал уже в 1943 – 1945 г., применял эту же тактику с неизменным успехом.
По численности истребителей новейших типов ВВС РККА, кстати, не уступали противнику – на вооружении имелось 917 МиГ-3, 142 Як-1, 29 ЛаГГ-3, большинство из которых находилось в западных военных округах. Правда, около половины из них ещё не имели обученных пилотов; случалось и наоборот – на некоторые типы истребителей успело переобучиться лётчиков больше, чем имелось машин. Эти самолёты, несмотря на то, что считались новейшими, также уступали Bf-109. Слово начальнику НИИ ВВС ген. Фёдорову: «В настоящее время у нас нет истребителя с лётно-тактическими данными, лучшими или хотя бы равными Ме-109F». Это цитата из письма авиаконструктору А. Яковлеву от 24 декабря 1941 г., по результатам кампании, длившейся пять месяцев, в том числе с широким применением самолётов новейших типов.
В обстоятельствах, когда противник слишком силён и нет возможности, а зачастую – и моральной готовности бороться за господство в воздухе, становится понятно, почему нередко так грубо нарушалась Директива ГКО №1 о маскировке имевшихся самолётов, отданная в ночь на 22 июня: лётчики и командиры авиаполков просто не решались выполнять её, так как не верили в имевшееся оружие, особенно устаревших типов. Это привело к тому, что значительная часть авиапарка западных военных округов была уничтожена прямо на аэродромах. Немцы выделяли для этой цели звенья из трёх пикирующих бомбардировщиков Ju-87, более известных как «штуки»: оснащённые 360 осколочными бомбами SD-2 каждый, пикировщики превратили взлётно-посадочные полосы, тесно уставленные «мишенями», в море огня.
Этот же тип самолёта, чьё применение обеспечивало господство в воздухе, завоёванное Bf-109, стал настоящим бичом советских автобронетанковых войск. Наиболее известный немецкий ас Г.-У. Рудель, воевавший на Ju-87, уничтожил 519 танков, 800 машин, 150 орудий, 4 бронепоезда, 9 самолётов, недостроенный тяжёлый крейсер «Петропавловск» («Лютцов»), лидер эсминцев «Минск», линкор «Марат» (разделённая победа)86. Ju-87 был тихоходной машиной с неубирающимся шасси в обтекателях, за что получил прозвище «лаптёжник». Его аэродинамические характеристики, включая крылья с изломом, позволяли, впрочем, осуществлять пикирование с больших высот под острыми углами. Техника его, достаточно сложная, требовала от пилотов превосходной выучки, которой, к сожалению, многие из них могли похвастать. Впоследствии, начиная с 1942 г., на «штуках» начали устанавливать автоматические 37-мм пушки BK 37, чьи бронебойные снаряды позволяли эффективно противостоять штурмовикам Ил-2 в воздухе. Г.-У. Рудель при помощи этого оружия подбил танков столько, что ими можно было бы укомплектовать целую армию: атакуя в пологом пике, он расстреливал вентиляционную решётку в задней части корпуса советских Т-34, за которой располагался незащищённый двигатель.
Несмотря на самое энергичное сопротивление, о котором свидетельствует более чем 12-кратное преимущество в количестве боевых вылетов, ВВС РККА потерпели тяжёлое поражение в борьбе за небо, потеряв к исходу 1941 г. 21 200 самолётов.
Глава 57. Гораздо больше миллиона, не сомневайтесь
Степени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвящённым
Ф. Кафка
Некогда виконта Р. Холдейна, секретаря военного департамента в 1905 – 1912 гг. и будущего лорда-канцлера, взявшегося за реформу британской армии с целью подготовить последнюю к мировой войне, спросили, какую именно армию он бы хотел увидеть. Ответ поразил военных чиновников до самой глубины их канцелярской души: «Гегелевскую».
Создававшаяся под чутким руководством Л. Троцкого (Л. Бронштейна), а затем И. Сталина (И. Джугашвили) и его соратников Рабоче-крестьянская Красная Армия изначально задумывалась как марксистская. В ней существовал совершенно неприемлемый с точки зрения военного дела принцип двуначалия, деливший власть между командиром и политическим комиссаром. Неизбежная необходимость в годы Гражданской войны, в последующие десятилетия он превратился в главную причину постигших армию репрессий – представители конкурирующих ветвей власти постоянно писали друг на друга доносы. В результате, вторжение немцев советские генералы встретили пассивно, постоянно озираясь на стоявшего за их спиной комиссара.
В. Суворов (В. Резун), как можно судить по его биографии – и даже по «раздвоению» фамилии – сам представляет собой наследника этой системы управления армией. Задумываясь как сталинско-марксистская, она на деле представляла собой чистое кафкианство. Уважаемый оппонент В. Суворов (В. Резун), кстати, выдающий себя везде и всюду за историка, в действительности может похвастать тем, что его творчество отмечено лишь одной наградой. Золотой медалью имени Франца Кафки. Его считают большим фантазёром – и не стесняются на это пенять, пусть и путём награждения. Бессмысленность и абсурдность многочисленных вывертов бюрократической системы – тема большинства произведений Ф. Кафки, – столь воспеваемой бывшим военатташе, когда речь идёт к тому же о сталинской бюрократии, станет темой данной главы.
В. Суворов (В. Резун) неоднократно упоминает о миллионе (возможно, даже больше) парашютистов, подготовленных в предвоенные годы в СССР. По его мнению, это самая главная отличительная черта подготовки к захватнической войне – наличие воздушно-десантных войск, поскольку те пригодны лишь для участия в наступательных операциях. По-моему, главным критерием подготовки к наступательным операциям, включая воздушно-десантные, является способность к их проведению, чем РККА в первые годы войны похвастать не могла. Следовательно, возникает парадокс, аномалия – и это потрясающе увлекательная тема для разговора.
Я полагаю, что парашютистов было подготовлено более миллиона. Много больше. Всего в предвоенные годы в ОСОВИАХИМе прошло подготовку 2,6 млн. чел., из которых большинство занималось весьма популярным в то время парашютным спортом. К прыжкам допускали лишь тех, кто сдал целый комплекс зачётов (по противохимической обороне, метанию гранаты, стрельбе и т.д.), призванных обеспечить всестороннюю подготовку будущих бойцов «крылатой пехоты». Только настоящий прыжок с самолёта – а не с парашютной вышки – давал право на ношение значка парашютиста. Количество самолётов У-2 (По-2), производившихся десятками тысяч штук, позволяло, по крайней мере, формально, поднять поочерёдно миллион человек – или даже более – на достаточную высоту – и сбросить их с парашютами.
Только к чему это? Всегда можно ограничиться прыжком с парашютной вышки, договорившись с парнем или девушкой, что те получат свой значок – но будут врать окружающим о «настоящем прыжке». Коррупция, стремление получить мзду «по чину» и свыше – эти качества всегда отличали русских чиновников, и при коммунизме они отнюдь не исправились. Маршалы (3 чел.), командармы (20), комкоры (69) и комдивы (153), не говоря уже о комбригах (247), сплошь оказались агентами иностранных разведок и участниками фашистских заговоров. Что же говорить о такой мелочи, как взяточничество среди инструкторов ОСОВИАХИМА?
Найдётся множество возражений против этого предположения: скажут, хорошо, допустим, это правда, и настоящих парашютистов в СССР не было – сплошная фикция. Откуда же тогда взялись 10 воздушно-десантных корпусов, неоднократно, формировавшихся, кстати – не-од-но-крат-но? Да такие там парашютисты были, отвечу, что не очень-то годились для воздушных десантов. Со мной согласятся все, кто что-либо читал, смотрел и слышал. Некоторые даже многозначительно нахмурят брови, скорчат снисходительно-небрежную мину и, вздохнув в стиле самых благообразных из интеллигентов, заведут речь: действительно, безалаберность всегда являлась отличительной чертой русского, да и не только русского, характера, поэтому И. Сталин (И. Джугашвили) столько народу и расстрелял – чтобы навести порядок… Извините, нельзя же так! А. Гитлер ещё и не столько расстрелял: его айнзатцгруппы, не считая персонала «лагерей смерти», истребили миллионы наших соотечественников. Он тоже хотел порядок навести – простой и честный парень, пришедший к власти исключительно ради восстановления справедливости, воздаяния по заслугам и пр.
Есть подозрение, что дело отнюдь не в безалаберности. Наоборот: всё именно так изначально и задумывалось, просто речь шла об извращённой логике, применённой к соответствующим условиям.
Посмотрите сами: миллион парашютистов есть. Можно хоть сейчас укомплектовать 10 воздушно-десантных корпусов, это 104 190 чел. будет – кстати, И. Сталин (И. Джугашвили) в 1941 г. так и сделал. Только как их десантировать? Предвоенные манёвры 1935 г. в Киевском военном округе раскрыли суть десантных операций будущей войны: сперва высаживается подразделение отборных парашютистов, которое захватывает аэродром, затем высадка ведётся уже посадочным способом – войска просто подвозятся на транспортных самолётах, которые садятся и, разгрузившись, улетают обратно. На этих, вошедших в историю, учениях было выброшено 1188 парашютистов – и высажено посадочным способом два стрелковых полка (1765 чел.) с подразделениями усиления и обеспечения. На всё ушёл 1 ч. 50 мин.
Но киевский десант – относительно маленький. Тогда не было ещё воздушно-десантных корпусов, парашютисты являлись бойцами отдельного парашютного полка. Какими же должны быть десанты с участием десяти вдк? Вы знаете, ничуть не большими по масштабу. Если этот ответ вас огорошит, сообщу: размеры десанта диктуются исключительно возможностями военно-воздушных сил. Самолёты, применявшиеся для выброски парашютистов и высадки посадочных десантов – ТБ-1(изготовлено 212 шт.) и ТБ-3 (818 шт.). Кстати, часть из них была утрачена в ходе Зимней войны. Да, были ещё лицензионные «дакоты», DC-3, или ПС-84, численность которых в середине 1940 г. достигла…12 единиц, что вместе с собственно DC-3, закупленными в США (19 шт.), представляло собой «грозную силу». Начиная с 1942 г., был развёрнут массовый выпуск DC-3 под индексом Ли-2; общая численность выпущенных лицензионных «дакот» к 1953 г. достигла 4937 шт. Практически столько же транспортно-десантных Ju-52 – 4845 шт. – выпустила нацистская Германия. Однако немецкие «юнкерсы» были на вооружении уже в 1941 году, а не в 1953 г.! Зачем же тогда формировать 10 воздушно-десантных корпусов, в то время как немцы, обладая огромным транспортным флотом, создали лишь одну, 7-ю, авиадесантную дивизию, по структуре и численности аналогичную советскому вдк?
В ходе воздушно-десантной операции Вермахта «Меркурий» 20 – 31 мая 1941 г. на Крит было сброшено парашютистов и высажено посадочным способом горных стрелков в общей сумме две дивизии (7-я авиадесантная и 5-я горнострелковая), для чего потребовалось не менее 500 транспортных самолётов (по другим данным, 800), из которых лишь 185 остались в строю к моменту завершения операции. А ведь, кроме Крита, военно-транспортная авиация имеет и другие задачи, к тому же ограниченным является и количество обученных пилотов, способных грамотно осуществлять десантирование.
Возникает вполне резонный вопрос: если советские ВВС обладали в несколько раз меньшим парком транспортных самолётов, причём большей частью – переоборудованных бомбардировщиков, лишь условно пригодных для выполнения задач десантирования, как они могли применяться для многократно более крупных воздушно-десантных операций? Видимо, никак – и война это подтвердила.
Согласитесь: что-то, мягко говоря, не сходится. Действительно, возможности советской военно-транспортной авиации оставались на уровне 1930-х годов. ТБ-3 десантной модификации брали на борт 32 парашютиста, DC-3 – 28. Если подсчитать максимально возможную цифру, то она будет довольно значительной. Но это – только в теории. Фактически же приходилось говорить о возможности единовременной высадки одной-двух бригад – и таких же, от силы, вдвое более многочисленных, сил посадочным способом. Если же учесть, что РККА предстояло столкнуться с Вермахтом, чья авиация ещё в небе Испании показала, что от неё можно ожидать только наихудшего, то советские возможности по высадке и снабжению парашютных десантов выглядели ещё более скромными. Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует в пользу правоты моих слов, как и предвоенные учения.
Ну, хорошо, а почему же тогда было сформировано 10 воздушно-десантных корпусов? Это очень интересный вопрос, и ни один из вариантов не будет подтверждением теории В. Суворова (В. Резуна), поскольку она заведомо неверна. Во-первых, в СССР действительно было выдано 1 млн. значков парашютиста, а значит, их счастливые владельцы должны были быть отмобилизованы в воздушно-десантные войска. Таковы мобилизационные планы и графики – и их не изменить! Даже если парашютистов и не удастся задействовать в ходе настоящего десантирования, всё равно вероятность необходимости подобного боевого применения всегда сохраняется. А десантники-то уже есть – готовы ринуться на врага из-под облаков! Да, действительно, более похоже на канцелярский казус, своеобразный административный парадокс, но подобные ситуации, вообще, отличают все бюрократизированные системы – они являются заложниками собственных циркуляров и инструкций.
Есть и другое объяснение. Этот вариант станет понятнее, если вы поймёте: в СССР до 1 сентября 1939 г. не было всеобщей воинской повинности. Вместе с тем каждый советский гражданин обязан был защищать советскую родину от капиталистических и, тем более, фашистских, захватчиков, до последней капли крови. Как же тогда осуществлять подготовку резервов? Совершенно верно: на добровольной основе. Поощрение процесса осуществлялось при широком участии комсомола и партии; наличие значка того или иного уровня престижности определяло статус молодого человека в обществе. Те же, кто не имел никаких значков, очень быстро превращались в парий.
В общем, так готовили резервистов. Нет, не просто резервистов – парни, прыгавшие с парашютом (пусть не все – с настоящего самолёта, а только с вышки), несомненно, отличались определённой отвагой. Если учесть, что для прыжков с ТБ-3 их всё равно надо будет дообучать (о, десантирование с ТБ-3, осуществлявшееся одновременно с плоскостей крыльев и из нескольких не приспособленных для этого люков представляло собой нечто исключительное!), то особой разницы между прыжком с вышки и с У-2 нет. Главное, что парни знают, как договориться с инструктором аэроклуба и доказать, что они ничего не боятся. Кстати, инструкторами становились уже те, кто совершил 10 настоящих прыжков, следовательно, их подопечные всегда имели гораздо меньший опыт. Едва ли их можно было считать полноценными солдатами воздушно-десантных войск, несмотря на то, что к участию в парашютных десантах они были условно пригодны.
Итак, речь идёт о храбрых, в целом, сдавших ряд зачётов по физической и военно-прикладной подготовке, ребятах, не боящихся и с парашютной вышки прыгнуть – и доказать, кому надо, что действительно прыгали с настоящего самолёта. Так им, наверное, в гвардию дорога. Гвардия – пережиток царских времён, и в СССР гвардии нет. Но отборные войска в Советском Союзе есть, это – десантники. Почему бы десантникам не быть гвардейцами – и наоборот?
Так и случилось: формировался один воздушно-десантный корпус за другим – и каждый раз на фронте «вдруг» случалось что-то, что вынуждало командование прекращать прыжковую подготовку и, переформировав корпус в гвардейскую стрелковую дивизию, бросать её в возникшую «брешь». По странному совпадению, ВДВ и были резервом Ставки. Отсутствие в составе артиллерийских и противотанковых подразделений на самом деле являлось даже плюсом, так как советское командование всё более и более склонялось к тому, чтобы артиллерию, особенно противотанковую, реактивную и крупных калибров выводить из подчинения общевойсковых объединений, массируя её в составе резервов Верховного главнокомандующего. Снабжение боеприпасами, управление огнём – всё это существенно упрощалось. В результате десантники-гвардейцы получали столько пушечных и гаубичных стволов из резервов Ставки, сколько это было необходимо для решения возникших задач. Там, где американские и британские десантники, сражаясь в качестве обычной пехоты – о, как часто эта доля выпадала парашютистам всех стран, – были вынуждены использовать специальные лёгкие танки, разработанные для десантирования, советские гвардейские дивизии могли рассчитывать на придание им полноценных танковых бригад, укомплектованных Т-34, а то и тяжёлых танковых полков прорыва, имеющих на вооружении КВ-1 или же ИС-2.
Подобный подход к роли ВДВ, артиллерии и танков, несмотря на известные неудобства, позволял относительно гибко управлять наличными резервами. Скажем, в 1941 г., когда десантники занимали пустующие укрепления КиУР, их потребность в тяжёлом вооружении была ограниченной. Другое дело – бои за Сталинград, куда отправилось девять гвардейских сд, сформированных в шестидневный срок (ещё одна дивизия предназначалась для Северо-Кавказского фронта) на основе десяти вдк. Масштабы этого процесса, как ни странно, нарастали именно по мере того, как воздушные десанты становились всё менее и менее вероятными: 5 января 1945 г. на базе Отдельной воздушно-десантной армии была сформирована 9-я гвардейская армия. После войны все её дивизии (98-я, 99-я, 100-я, 103-я, 104-я, 105-я, 106-я, 107-я, 114-я) стали гвардейскими воздушно-десантными.

