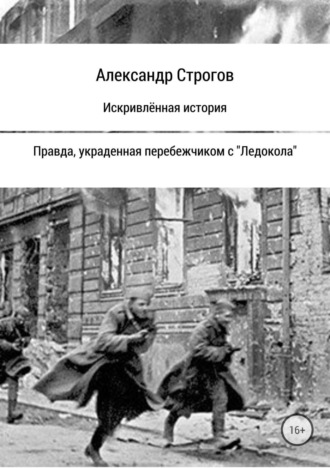
Искривлённая история
Вот уж действительно: бронетанковая химера. Кстати, Россия в период Первой мировой войны уже породила подобную химеру; это был самый большой танк, когда-либо созданный человечеством. Высота его достигала 9 м, ширина – 12 м, а длина – 17,8 м при весе в 60 т. «Царь-танк» –под таким названием остался в истории танк конструкции Н. Лебеденко. На испытаниях, движимый двумя 240-сильными «майбахами», снятыми с подбитого немецкого дирижабля, этот танк даже двигался, хоть и недолго – задний каток машины, внешне напоминающей велосипеды ранних конструкций (только «Царь-танк» был трёхколёсным велосипедом, причём поражающих всякое воображение размеров), увяз в мягком грунте. Второй поездки у «Царь-танка» не было. Он так и остался ржаветь в подмосковном лесу на долгих 8 лет, пока в 1923 г. его не пустили на переплавку.
Химера «Царь-танка», сколь впечатляющего, столь и бесполезного, повторилась, причём в стратегических масштабах, в 1941 г. Немцы же, несмотря на то, что многие рядовые танкисты и даже высшие командиры впали в настоящий транс, столкнувшись с Т-34 и КВ, были хорошо осведомлены о подлинной силе автобронетанковых войск РККА. Подобно Чингисхану82 и его темникам, нацистские полководцы не испугались численного превосходства противника, а лишь задали вопрос: где он?
Ну, ладно, скажут мне наиболее рьяные поклонники творчества В. Суворова (В. Резуна) и его теорий, действительно, бесноватый фюрер и его военачальники совершенно не имели тормозов, и поэтому решили атаковать более сильного противника. Действительно, советские танки были в большинстве своём похуже немецких, но были на вооружении РККА и, наоборот, лучше бронированные, энерговооружённые, передовые во всех смыслах машины Т-34 и КВ. Да взяли, навалились все скопом – и разгромили фашистов в пух и прах! Численное преимущество ещё никому и никогда не удалось преодолеть лишь за счёт весьма спорного «качества». В конце концов, суммарное количество танков Pz.Kpfw.II, Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV в войсках, развёрнутых по плану «Барбаросса», достигало лишь 2350 шт. (!).
Вот и И. Сталин (И. Джугашвили) так думал, и Г. Жуков, и С. Тимошенко, и многие другие генералы и маршалы. А сами тем временем начали торопливо создавать Второй Стратегический эшелон, чтобы иметь чем прикрыться, когда Первый разобьют. Почему? Что в них такого, в этих немецких танковых дивизиях, к тому же нередко оснащённых трофейными чехословацкими танками? Они что, неуязвимые? В чём дело?
Что ж, могу и рассказать. Советское руководство имело более чем достаточную информацию о немецких танках, так как во время гражданской войны в Испании, 1 апреля 1939 г. закончившейся поражением республиканцев и поддерживавшего их Коминтерна, постоянно сталкивалось с ними на полях сражений. Вообще, результаты боёв в Испании стали поводом для разочарования военных экспертов всего мира в танках: советская бронетехника, преимущественно Т-26 и БТ-5, несмотря на лучшее бронирование и вооружение, чем у немецких Pz.Kpfw.I, а также значительное количество (347 танков и 60 бронеавтомобилей), не смогла оказать заметного влияния на ход боевых действий. Т-26 советского производства возбудили интерес немецких военных советников. Слово одному из них, В. фон Тома, будущему командиру танковой дивизии в танковой армии «Африка», виднейшему из соратников Э. Роммеля: «Русские танки начали прибывать к республиканцам довольно быстро, уже в конце июля (1936 года). Они были тяжелее наших, вооруженных лишь пулеметом. Я предложил по 500 песет за каждую захваченную русскую бронемашину, считая, что будет целесообразно использовать их в наших собственных целях. Мое предложение особенно пришлось по душе марокканцам83 , которые доставили мне немало советских танков». В армии Ф. Франко возникло 4 танковых роты, имевших на вооружении 60 Т-26. Впрочем, сильнопересечённая местность, на которой приходилось действовать несовершенным танкам того периода, а также некомпетентность франкистов и республиканцев, распределявших танки между пехотными частями, приводила к тому, что те «выбивались» противотанковой артиллерией и авиацией. Авторитет танков как оружия резко упал.
Впрочем, операция Вермахта против Польши (“Fall Weiß”, нем. «Белый план»), показала, что танки, сгруппированные в подвижных дивизиях и корпусах, представляют собой решающую силу на поле боя – способные прорывать фронт на оперативную глубину, эти соединения окружали армии противника и, лишённые подвоза, те капитулировали. Однако управление ими, снабжение – всё это требовало развитой радиосвязи, многочисленного автопарка, обеспеченного значительным количеством грузовиков повышенной проходимости и, конечно, квалифицированного командного состава. Ничем этим И. Сталин (И. Джугашвили) похвастать не мог; ему оставалось лишь запустить в производство ещё более мощные танки с противоснарядным бронированием и длинноствольными пушками, чтобы за счёт подобного асимметричного преимущества компенсировать недостатки собственных танковых войск.
Не имея ещё летом 1939 г. на вооружении таких машин, как Т-34 и КВ, которые на тот момент находились в процессе разработки, советское командование чувствовало себя крайне неуютно накануне вторжения гитлеровцев в Польшу. Все советские танки того периода, за исключением Т-35, были уязвимы к огню 20-мм автоматической пушки, установленной на Pz.Kpfw.II (по состоянию на 31 августа 1939 г. эти танки составляли 41% танков немецкого производства, находившихся на вооружении Вермахта). Пехота, вооружённая противотанковыми пушками 3,7 cm Pak 35/36, могла не опасаться и Т-35.
Теперь вполне понятно желание И. Сталина (И. Джугашвили) взять паузу и подождать, пока войска пополнятся танками новейших моделей, способными дать бой нацистским боевым машинам. Как и Польша в 1934 г., он заключил с Германией пакт о ненападении, который дал ему, среди прочего, возможность поучаствовать в разделе Польши. Польша также поучаствовала в разделе Чехословакии, хотя это не принесло ей заметных дивидендов: вскоре она сама стала жертвой нападения А. Гитлера. Как нетрудно догадаться, следующим на очереди был СССР, и лишь дела на Западе (операции против Дании, Норвегии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов, Франции, Югославии и Греции) отвлекли фюрера от его главного идеологического противника. В. Суворов (В. Резун) настаивает на том, что И. Сталин (И. Джугашвили) в этот период также не сидел сложа руки, однако его достижения, особенно на военном поприще, выглядят куда скромнее. Страна, оказавшая ему вооружённое сопротивление, Финляндия, заслужила уважение всего мира, показав, что и с огромными армиями великих держав, насыщенными современной техникой, можно с успехом бороться.
Большинство историков, особенно мой уважаемый оппонент, почему-то твердит о «разделе Европы», хотя обе стороны отлично понимали, что речь идёт лишь о подготовке к грядущей большой войне, которой «лимитрофные» государства только мешали. Действительно, пауза длиной в почти два года, за которые можно будет вооружиться новейшими образцами техники (теперь вы знаете, насколько плачевным виделось состояние РККА тем, кто обладал объективной информацией), пожалуй была гораздо важнее сомнительных выгод от территориальных приобретений по секретному протоколу к В. Молотова – И. Риббентропа.
В пользу этой версии о «передышке» высказывается самый главный свидетель – И. Сталин (И. Джугашвили). Вот что он заявил всему советскому народу 3 июля 1941 г., когда война ещё только началась, ноу же успела пожрать значительную часть его механизированных корпусов: «Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии». Данное выступление, сделанное накануне Лепельского контрудара, содержало и угрозы в адрес противника: «В бой вступают главные силы Красной Армии, вооружённые тысячами танков и самолётов. Храбрость воинов Красной Армии – беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растёт. Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается весь советский народ». Так советский вождь напутствовал родного сына, и многие сотни тысяч других красноармейцев и командиров, готовившихся вступить в бой.
Глава 54. Танковые сражения начального периода войны
В конечном счёте солдатский ранец не тяжелее, чем цепи военнопленного
Д. Эйзенхауэр
В годы, непосредственно предшествующие войне с Германией, советские танковые силы неоднократно переформировывались, что само по себе является убедительным доказательством неоднозначной оценки их вождём и его полководцами. Например, по штатам 1935 г., каждая стрелковая дивизия РККА имела в своём составе танковый батальон (60 танков), предназначенный для непосредственной поддержки пехоты на поле боя. С этой целью и создавался Т-26, это вполне резонно. Однако 14 августа 1939 г. штаты неожиданно изменили: танки, за исключением плавающих разведывательных, изъяли из стрелковых дивизий.
О причинах этого решения можно долго судить и спорить, я же выскажу своё предположение: танки, ставшие прототипами советских Т-26, Т-37А и БТ, закупали в Великобритании и США, однако немецкая военная доктрина, которая предполагала концентрацию танков в ударных группах в весьма значительных количествах, к тому времени производила впечатление более рациональной. К тому же введение 1 сентября 1939 г. всеобщей воинской повинности должно было неизбежно привести к резкому росту численности стрелковых дивизий – при снижении квалификации личного состава и насыщения вновь созданных соединений техникой.
Ещё одна версия: имевшиеся танки стремительно устаревали, и их боевая ценность снижалась, что вынуждало командование компенсировать этот недостаток попыткой увеличить количество танков, единовременно вводимых в бой. Собранные в составе мехкорпусов, они могли также использоваться как учебные, пока их заменяли современными бронированными машинами.
В 1941 г. всё это дало только негативные результаты, поскольку недостатки имевшихся на вооружении танков росли в определённой прогрессии, пропорционально приросту их численности. Как нетрудно догадаться, механизированные корпуса, в которых после завершения комплектации должно было быть по 1031 танку, представляли собой не слишком боеспособные соединения.
Дело в том, что слабым местом советских автобронетанковых войск РККА неизменно оставалось управление. Речь идёт не только о кадрах, которые «решали всё», и, как показывает пример только генерал-полковника М. Кирпоноса, ещё недавно занимали должности на несколько уровней ниже.
Даже если настаивать на том, что сталинская кадровая политика должна считаться примером для подражания, то всё равно оставался технический вопрос. Да, техника подводила. Далеко не каждый советский танк был оборудован радиостанцией – и, следовательно, не мог получить от командования его гениальные приказы. Радиостанции имелись лишь на командирских танках (это касалось, кстати, и новейших Т-34, лишь с началом производства Т-34-85 в 1943 г. радиостанции появились на всех танках). Управление частями поэтому предусматривалось при помощи визуальной сигнализации, флажками. Разумеется, то, что выглядит весьма эффектно на учениях, в реальной жизни осуществить не представлялось возможным. Танки, рассыпавшись по местности, «блуждали целыми подразделениями».
Не все немецкие танки оснащались радиостанциями (например, из танков Pz.Kpfw.I передатчики несли лишь специально оборудованные командирские машины, в то время как остальные были оборудованы всего лишь приёмниками), однако преимущество Вермахта в данном компоненте было решительным и несомненным. Кроме всем привычных фраз о высоком качестве немецкой радиотехники должен добавить самое главное: Г. Гудериан, создатель немецких танковых войск по образованию был отнюдь не танкистом, а связистом, поэтому значение радиосвязи понимал хорошо, как никто.
Отсутствие радиосвязи приводило не только к потере контакта с отдельными машинами и даже частями; хуже всего приходилось как раз тем танковым дивизиям, которые, проявляя стальную дисциплину и превосходную выучку, были способны бросить все имевшиеся танки на врага. Их боевые порядки вынужденно были достаточно тесными, что только облегчало работу противнику: выдвинутые на танкоопасные направления противотанковые батареи 37-мм «колотушек», отличавшихся завидной скорострельностью, в кратчайшие сроки выводили из строя огромное количество машин.
Второй недостаток советских танков, оставшийся с ними на всю войну, заключался в превосходстве немецкой оптики фирмы «Цейс». Танки КВ-1, создававшиеся как танки прорыва, обладали к тому же совершенно «неудовлетворительным обзором».
В качестве примера я предлагаю разобрать сражение в районе Ровно, Дубно и Луцка (23 – 30 июня 1941 г.), уже неоднократно мной упомянутое. С советской стороны в нём принимало участие 5 мехкорпусов Юго-Западного фронта (8-й, 9-й, 15-й, 19-й и 22-й), а также 109-я моторизованная дивизия и три стрелковых корпуса, имевшие 3128 танков. Им противостояла 1-я танковая группа (генерал-полковник Э. фон Клейст), конкретно 5 танковых, 2 моторизованных и 7 пехотных дивизий, в которых имелось 799 танков и САУ, в том числе 115 радиомашин Sd.Kfz. 265 на шасси Pz.Kpfw.I.
Соотношение сил, видимо, было в пользу советской стороны. Директива №3 наркома обороны (маршал С. Тимошенко) от 22 июня 1941 г., визированная главой генштаба (генерал армии Г. Жуков), предписывала следующее: «Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5А и 6А, не менее пяти мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 26 июня овладеть районом Люблин. Прочно обеспечить себя с краковского направления».
То была великолепная директива, как раз в духе концепции «глубокой операции». Её выполнение позволило бы окружить всю группу армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт). Первое же совещание штаба Юго-Западного фронта привело к тому, что директиву признали невыполнимой: ни о каком прорыве на Люблин и речи быть не могло. Танки решили бросить прямо на противника в направлении на Красностав и разгромить его во встречном сражении.
Давайте попробуем выяснить причины такого своеволия, обусловленного неверием советских генералов в собственное оружие – непредвзято, отбросив всякие «но Гитлер упредил…» В. Суворова (В. Резуна). Во-первых, танков у РККА было очень много. Во-вторых, танков было так много, что организовать снабжение прорыва на Люблин не представлялось возможным, даже в условиях отсутствия противодействия со стороны противника. Даже если бы танковыми дивизиями было возможно эффективно управлять при помощи ручных флажков – и танки могли бы, пусть и теряя гусеницы, как то свойственно было машинам серии БТ, беспрепятственно двигаться на запад.
Главная проблема заключалась как раз в количестве танков. Особенно в мощности их двигателей (а танки серии БТ, Т-28, Т-35, Т-34 и КВ существенно превосходили немецкие по этому показателю). Советские танки пожирали столько горючего, сколько никогда не смогли бы получить от собственных снабженцев. Танковая дивизия Вермахта превосходила советскую в численности личного состава в 1,55 раза (16 932 чел. против 10942 чел.), по орудиям противотанковой артиллерии – в 8,42 раза (101 против 12), по орудиям полевой артиллерии – в 2,07 раза (58 против 28), по орудиям зенитной артиллерии – в 5,25 раз (63 против 12), по количеству автомобилей в 1,58 раза (2147 против 1360), уступая лишь в численности танков – в 1,88 раза. Любой, кто читал произведения В. Суворова (В. Резуна) скажет, что немецкая танковая дивизия была, как минимум, в 1,88 раза слабее. К сожалению, ни Э. фон Клейст, умерший во Владимирском централе, ни Г. фон Рундштедт не читали этих, не имеющих аналогов, исторических изысканий84.
Я сейчас скажу, в чём дело. Немецкая танковая дивизия была насыщена автотранспортом, как правило, более мощным, с лучшей проходимостью и с большей грузоподъёмностью. Мехкорпус РККА был равен ей по показателю «автомобиль/чел.» (0,124 против 0,127 у немцев), однако мощность танковых двигателей и ТТХ грузовых автомобилей, которым предстояло снабжать собственные танки, то есть фактические потребности в автотранспорте, при этом совершенно не учитывались.
Если мы попробуем представить себе картину развернувшегося 23 – 30 июня 1941 г. встречного сражения, то нам также следует помнить о наличии в двух немецких мотопехотных полках танковой дивизии батальонов на полугусеничных бронетранспортёрах, что заполняло пустоту между танковыми подразделениями и пехотой. В конечном итоге, это приводило к тому, что немцы могли задействовать свои танки и артиллерию одновременно, в то время как советской стороне приходилось мириться с возникновением неизбежных разрывов в собственных порядках.
Мехкорпуса не были способны наносить проникающие удары ни на оперативную, ни, тем более, на стратегическую глубину. Вполне осознавая это, командование Юго-Западного фронта решило добиться успеха во встречном сражении, сократив собственные коммуникации до минимума, чтобы раздавив противника своими многочисленными танками. События, однако, развивались совершенно иным образом: РККА потерпела в этом сражении сокрушительное поражение.
Противник, превосходивший советскую сторону в управлении войсками, умело выдвигал на угрожающие участки фронта противотанковую и зенитную артиллерию. Это стало неожиданностью для советских экипажей, рассчитывавших сразиться с немецкими «панцерами» в танковом бою. Убийственный огонь 37-мм «пехотных колотушек» в самые короткие сроки выбил большую часть наличных танков; для борьбы с Т-34 и КВ применялись 105-мм полевые гаубицы и 88-мм зенитки. Дополнительным фактором стали активные действия немецкой пикирующей авиации – Люфтваффе господствовали над полем боя.
Правда о неудачных контрударах, попытки которых имели место в первые дни войны, долгое время замалчивалась советскими историками, что создало своеобразную «слепую зону» и, как результат данной политики – недоверие к официальной версии событий. На этой почве возникли благоприятные предпосылки для самых неправдоподобных мистификаций, в первую очередь, для той, которую уже очень долгое время выдаёт за истину В. Суворов (В. Резун). В настоящее время, в связи с открывшимся широким доступом к самым секретным некогда архивам, покров тайны во многом снят. Только описанное мною вкратце сражение (также именуется «битвой за Дубно – Луцк – Броды») свидетельствует о масштабах боёв, разгоревшихся в западных военных округах самых первых дней войны. Долгое время преданная забвению, сейчас эта битва, наоборот, привлекает к себе внимание количеством принявших в ней участие танков – гораздо больше, чем в сражении под Прохоровкой в 1943 г. Здесь должен высказать собственное мнение: бои 1941 г. не могут сравниться с вышеупомянутым по причине того, что в 1943 г. была достигнута беспрецедентная концентрация танков на квадратный километр – с обеих сторон. Сражения же начального периода войны, в том числе и бои в районе Ровно, Дубно и Луцка, отличаются значительной рассредоточенностью сил, к тому же они далеко не всегда были противостоянием танковых подразделений, весьма значительную роль в истреблении советской бронетехники сыграла немецкая противотанковая артиллерия.
Разгром мехкорпусов РККА и окружение ряда соединений сопровождались колоссальными потерями в боевой технике: к 30 июня 1941 г. было утрачено 2648 танков, часть которых досталась противнику в качестве трофеев. Вообще за первые 15 суток боёв фронтом было утрачено 4381 танк из имевшихся 5826. Потери 1-й танковой группы (Э. фон Клейст) были многократно меньше: по состоянию даже на 4 сентября, после ещё двух месяцев напряжённых боёв, они составили 408 машин (включая лишь 186 безвозвратно) из 880, имевшихся к началу операции «Барбаросса».
Такова была реальная цена советским танкам в 1941 г.
Глава 55. Сталинские соколы
Грешен, но должен признаться, что я люблю лётчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь лётчика обижают, у меня прямо сердце болит. За лётчиков мы должны стоять горой. Если надо – я, как тигр, готов защищать наших лётчиков
И. Сталин (И. Джугашвили)
Такие вот крылатые слова произнёс однажды вождь мирового пролетариата, говоря о лётчиках. Все начальники ВВС РККА 1930-х годов (Я. Алкснис, А. Локтионов, Я. Смушкевич, П. Рычагов), не считая их многочисленных заместителей, были расстреляны по приказу И. Сталина (И. Джугашвили). Некоторые, подобно лётчику-рекордсмену В. Чкалову, разбились сами, избавив главу компартии от ненужных хлопот. Впрочем, говорить о патологической лживости «лица кавказской национальности», кстати, предпочитавшего пользоваться фразой «мы, русские…», в данных обстоятельствах не приходится. Некоторых лётчиков он защищал до самого конца – в частности, собственного сына В. Сталина, в годы войны командовавшего гвардейским истребительным авиаполком и даже авиадивизией, и собственного личного пилота А. Голованова, именуемого В. Суворовым (В. Резуном) «сталинским буревестником».
Начнём наше повествование о военно-воздушных силах СССР в 1941 г. именно с этих двух командиров, тем более что оба они, как никто были близки к вождю. Василий Сталин (1920 – 1962), по его собственным словам, воспитывался охраной, а потому рано начал пить и курить. Современники отзываются о нём, как о человеке смелом лично, любившем авиацию – но, мягко говоря, не соответствующем занимаемым должностям. В ходе войны, он, по словам подчинённых, более прислушивался к ним, как к более опытным лётчикам, сам же старался принимать участие в боях на равных – он сделал 26 боевых вылетов, даже одержал 5 побед, по другим данным, 2 лично и 3 в группе.
А. Голованов, сын капитана буксирного парохода и оперной певицы, воспитывался в Александровском кадетском корпусе; он вступил в Красную Гвардию в 1917 г., имея всего лишь 13 лет, благо выглядел на все 16. В 1919 г. он начинает службу в рядах Красной Армии, разведчиком, в 1920 г., получив контузию, переводится в ЧОН ВЧК. С тех пор начинается его долгая и выдающаяся карьера в советской секретной службе ОГПУ. В 1931 г. его прикомандировали к Наркомтяжпрому, возглавляемому С. Орджоникидзе, ответственным секретарём одного из его заместителей. Если просто, А. Голованов, подчинявшийся главе ОГПУ В. Менжинскому, был шпиком при С. Орджоникидзе и его «команде».
Затем А. Голованов, всё более терявший связь с «органами», переводится в ОСОВИАХИМ, учится управлять самолётом. В период «Великой чистки», в 1937 г., его неожиданно исключают из КПСС. А. Голованов, в то время занимавший руководящую должность в «Аэрофлоте» – он возглавлял Восточно-Сибирское управление, – поехал в Москву; его апелляции были благосклонно выслушаны Комиссией партийного контроля при ЦК ВКП (б), возглавляемой наркомом внутренних дел Н. Ежовым. «Буревестника», налетавшего к тому времени более миллиона километров (огромная цифра по тем временам), восстановили в партии и даже назначили шеф-пилотом эскадрильи особого назначения. Как нетрудно догадаться, он вновь начал выполнять задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности, включая арест, транспортировку в Москву и расстрел высокопоставленных советских руководителей.
По утверждениям В. Суворова (В. Резуна), А. Голованов пользовался особым пистолетом, финским “Lahti L-35”. Кто является источником данной информации, неизвестно, однако, вполне может оказаться, что это – правда. “Lahti L-35” действительно был создан для выполнения особых задач; те же, кто представляет себе оружие с точным боем, созданное под сверхмощный патрон, или способное, подобно некоторым модификациям «Маузера», вести автоматический огонь, жестоко разочаруются. Аймо Лахти разработал пистолет, предназначенный для боевых действий в условиях Заполярья. Фактически, речь следует вести о всё том же «парабеллуме» P08 конструкции Борхардт-Люгера, но способном вести огонь низких температурах. Такое оружие, видимо, действительно было необходимо А. Голованову, перевозившему «опасных преступников» при отрицательных температурах (кабины самолётов в тот период не отапливались), не говоря уже о расстрелах в зимнее время года.
В период Великой Отечественной войны А. Голованов, ещё в январе 1941 г. по совету Я. Смушкевича написавший письмо И. Сталину (И. Джугашвили) с просьбой зачислить его на военную службу; в результате «сокола» удостаивают личной встречи с вождём. Вскоре А. Голованов уже возглавляет 212-й полк дальнебомбардировочной авиации, затем 81-ю авиадивизию, 3-ю авиадивизию, наконец, всю авиацию дальнего действия – и всё это в течение менее года воинской службы!
В годы войны А. Голованов сам неоднократно участвовал в боевых вылетах (впрочем, преимущественно в ночных, осуществлявшихся к тому же на больших высотах), имел, как минимум, одну «вынужденную посадку». Он пользовался благосклонностью вождя, при встречах называвшего А. Голованова по имени, словно тот действительно был его пажом. Любопытно, что при перелёте на Тегеранскую конференцию в 1943 г. И. Сталин (И. Джугашвили) не доверил А. Голованову пилотировать его самолёт – тот повёл другую машину, очевидно, заполненную «обслуживающим персоналом» (охраной, официантками, шеф-поварами и т.д.). В тот раз за штурвал он садился в звании… маршала авиации; представляете, до чего высокопоставленный у вождя был «персонал» – один генерал-шашлычник чего стоит?! Уже в 1944 г. А. Голованову присваивается звание Главного маршала авиации.

